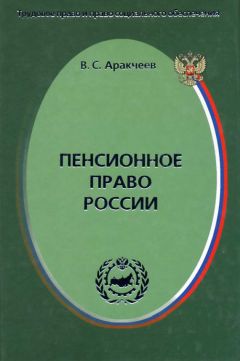Ознакомительная версия.
Закурив, Адам решил пойти на конюшню проведать мерина. Но еще издали он увидел, что возчик Степа уже выезжает на телеге, запряженной мерином.
– Н-нё! Н-нё! – громко кричал белобрысый возчик Степа, шлепая вожжами по гладкому крупу мерина.
«Поехали, – равнодушно подумал Адам, слушая, как глухо затарахтела телега по мощеной дороге, глядя, как трясется большая белобрысая голова возчика Степы, как легко бежит мерин по чистой, вымытой ночным дождем дороге. – Поехали. Ну-ну, поезжайте!»
И Адам снова вернулся к сторожке. Здесь он сел на порог и, закрыв глаза, тихонько посасывал свою трубку.
«За что? Почему все так? Эх, ты, гад, гад! Ученый гад! – Эта мысль, нечеткая, но нестерпимая, как заноза, терзала неотвязно усталое, старое сердце Адама. Его изношенные сухие кисти, перетянутые набрякшими холодной кровью темно-синими венами, сами сжимались в кулаки, крепкие, как железо. – Ух ты, гад ученый! Вернется, вернется она к нему. Пальцем поманит – вернется. Кто любит – они как пьяницы. Вернется, и опять он ее замордует!»
Никогда он не был злым человеком, но сейчас вся злоба и все отчаяние, которые были отпущены ему на долгую жизнь и которые он не истратил, выплыли из темной глубины и нацелились в одну точку, против одного человека. Любой ценой он был готов сейчас защитить дочь от этого человека, оградить ее от него раз навсегда.
Больничный двор оживал. Между корпусами, среди деревьев замелькали белые халаты. С желтым огромным и совершенно пустым портфелем в руке, полный собственного достоинства, прошагал по главной аллее завхоз Вениамин Швабер.
Через четверть часа показался и Николай Артемович, как всегда стремительный и стройный, в белых чесучовых брюках и в белой рубашке с закатанными до локтей рукавами. Издали он был похож на студента.
Увидев его, Адам вздрогнул, и все в нем словно похолодело. Он хотел окликнуть его сейчас же, немедленно… Но пока собрался с духом, Николай Артемович был уже далеко. Николай Артемович должен был обходить больных, а после обхода он неизменно запирался у себя в кабинете и три первых утренних часа работал над своими учеными трудами.
«После обхода, – решил Адам, – после обхода…»
Выждав время, пока профессор сделает обход, Адам поднялся с порога и вошел в сторожку, чтобы взять тетрадь Лизы. В солнечном свете зеленая лампа горела на столе тускло, матово, как будто из далекого далека. Взглянув на лампу, Адам вдруг подумал о том, что Николай Артемович не полез бы за нею по обмерзлому карнизу.
– Не полез, – жестко сказал он вслух, – не полез, сдрейфил!
«Нет, неправда, он не из трусливых, – следом же подумал Адам, – но не полез бы, не дано ему этого…»
Погасив лампу и неожиданно для себя погладив ее по зеленой теплой голове, Адам взял тетрадь, вышел из своей сторожки и, как и задумал, пошел к профессору.
Войдя в главный корпус, он поднялся по обкатанным ступеням на второй этаж, подошел к высокой белой двери кабинета. За дверью стрекотала машинка: Николай Артемович уже приступил к работе.
Собравшись с дыханием, которое он сбил, поднимаясь по лестнице, Адам постучал в белую, густо окрашенную дверь.
Машинка за дверью стрекотала, не сбиваясь с ритма.
Адам стучал настойчиво, до тех пор, пока машинка не смолкла и за дверью не послышались легкие, быстрые шаги.
Щелкнул ключ в замочной скважине.
– Какого черта! – резко распахнув дверь, крикнул Николай Артемович. – А, это ты! – постарался он погасить раздражение в своем голосе и в лице. – В чем дело?
– В шляпе, – отвечал Адам, проходя в профессорский кабинет, – дело в шляпе!
– Раненько ты поднабрался, – прикрывая дверь, дружески улыбнулся Николай Артемович.
– Разговор у меня, – глядя мимо профессора, глухо сказал Адам.
– Посиди, – кивнул профессор на стулья в белых чехлах, стоявшие вдоль стены, – сейчас я мысль достучу и поговорим.
Адам остался стоять посреди комнаты. Когда он сидел на пороге и собирался сюда идти, он знал все, что скажет профессору, какими словами расплатится он за Лизу! За все! А сейчас, стоя посреди профессорского кабинета и глядя, как уверенно, наклонив лобастую, благородного вида голову, пишет профессор, глядя на скелет за его спиной в остекленном шкафу, он ощутил вдруг, как опустело все и в его голове, и в сердце. С жутью чувствовал он, что у него нет злобы, нужной для этого разговора. И пока профессор стучал, Адам изо всех сил старался собрать в себе эту злобу, чтобы было, было что выплеснуть в лицо профессору.
– Так по какому поводу ты, братец, набрался с утра пораньше? – перестав стучать на машинке, весело спросил Николай Артемович. Все эти дни после свидания с Лизой настроение у него было на редкость благодушное. – Чего же ты молчишь, Адам Степанович?
– Я не Адам тебе! Я Алексей! Алексей Зыков, так и запомни! – сам не сознавая себя, вдруг пошел на него Алексей. – На! – выставив вперед руку с тетрадью, задыхаясь, наступал он на профессора. – Для тебя писалось! На! – И он бросил тетрадь на пишущую машинку.
– Лизин почерк? – удивленно поднял брови Николай Артемович. «Да, – вспомнил он, – да-да, это же та самая тетрадь, что она все совала мне».
– Так в чем дело? – с обычной своей насмешливостью, граничащей с издевкою, сощурил он свои синие глаза, в которых уже плавали льдинки. – Так в чем дело, Адам-Алексей-Ибрагим-ибн-оглы-Ламанчский?
Этого могло не случиться, если бы не последние дурашливые слова Николая Артемовича. Но слова эти были сказаны.
– Надсмехаешься? Ух ты, гад! Над всем надсмехаешься! – срываясь на шепот, выдохнул Алексей и, схватив тетрадь, наотмашь по щекам стал хлестать ею профессора, левой рукой держа его за грудки. – На, гад! На! Дочка мне Лиза! На! Родная! На! За что ты ее мордовал? На! За что всех вокруг себя мордовал? На! А за лампою бы полез? Врешь, гад, не полез! На!
Наконец, опомнившись, профессор перехватил руки Адама.
– Пусти, гад! – не в силах вырвать свои руки, прохрипел Адам. Глаза его налились кровью, дыхание сбилось. – Пусти!
– Ты что? Ты что? – растерянно и зло спрашивал Николай Артемович, стараясь держать его подальше, чтобы, чего доброго, не ударил головой. – В чем дело? Я не понимаю!
– Пусти! – хрипел Алексей устало. – Пусти! Ты и не поймешь ничего. Но Лизку не морочь – убью! – И он, резко крутанув руками, освободился.
– А ты не пьян! – сказал Николай Артемович. – Ты спятил. Да-да, ты спятил, старый дурак, – вытирая ладонью разбитый нос, сказал он.
– Я отец. Родной отец. И я прибью тебя, понял! – нагнув голову, не глядя на профессора, выдавил Алексей.
– Не понял. Сядь, успокойся, пока я себя в порядок приведу. – И быстро пройдя к двери и замкнув ее, профессор вынул из кармана белый носовой платок и, подойдя к раскрытому окну, высоко поднял голову и приложил платок к носу, чтобы остановить кровь. Нос у него всегда был слабый. «Какая дикость со стариком! – думал Николай Артемович, глядя на серебристые белые облака, проплывающие в высоком голубом небе. – Какая дикость! Ничего, сейчас разберемся во всем по порядку». И в это время за спиною Николая Артемовича глухо стукнуло – это упал Алексей. Через четыре минуты Никогосов Николай Артемович констатировал смерть Алексея Зыкова. Спасти его при всей решительности и при всем опыте профессора оказалось невозможным.
XXXIX
Когда утром следующего дня голоногое Митькино воинство ступило за больничную ограду, Адам не сидел на пороге своей сторожки. Вместо него у дверного косяка желтел свежевыструганными досками, лоснился на солнце боками грубый гроб.
Мальчишки остолбенели.
– Вай-я! – удивился Толян Бубу.
– Адам сандали отбросил! – тихо сказал Генка Кость.
– Заткнись, пузан! – яростно сверкнул на него глазами Митька Кролик. – Дам в лоб – клоуном станешь! – Митька почувствовал, как в животе у него все похолодело и заныло.
В сторожке Адама хозяйничала Мария Ивановна.
– Бабуся, а где дедушка Адам? – ступив вперед, вежливо спросил Митька.
– Богу душу отдал! – перекрестилась старуха. – Царство ему небесное! Помер, помер! О-о-о-о-а! – вдруг заголосила она. – Ну, входите, чего за порогом встали, за порогом нельзя стоять, – сказала старуха. – Посмотрите, посмотрите на соколика нашего! О-о-о-о-а! – снова заголосила она.
Дыша друг другу в затылки, мальчишки набились в каморку. Кровать из нее была вынесена, в углу, на двух сдвинутых столах, покрытых белой простыней, в новой сатиновой рубашке, что недавно подарила ему Маруся, в новых черных бумажных брюках, в новом чувяке на правой ноге, вытянувшись, лежал Адам. При виде его мальчишки опешили: оказывается, какой он был высокий! Сквозной ветерок, сочившийся из выбитой шибки окна, шевелил редкие волосы его ставшей вдруг белоснежной бороды.
Адам словно спал, и лишь пятаки на выпуклых веках выдавали смерть. Пятак на левом глазу лежал орлом, а на правом – решкою. Заметивший это Толян толкнул под локоть Митьку и осудил шепотом:
Ознакомительная версия.