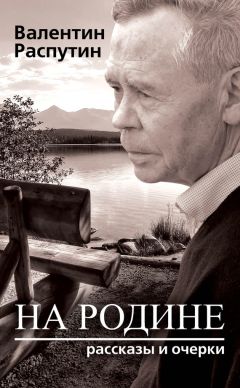Мои предки и предки русскоустьинцев вышли из одного гнезда, но вышли в разное время и осели на разных почвах. Когда будущие ангарчане отселились с прежней родины (самые распространенные у нас фамилии – Пинегины да Вологжины), от исхода русскоустьинцев миновали немалые сроки. Лучшее доказательство тому – язык. За сто с лишним лет произошли изменения в языке и на кондово-русских землях, на Русском Севере – там, где теперь Новгородская, Вологодская, Архангельская и краем Вятская губернии. И то, что выпало там из языка к началу XVIII века, к нам на Ангару уже не попало, а что было до того – просматривается по Русскому Устью.
Это не научный труд, занимающийся доказательствами. Это скорее слуховое сравнение. Еще до поездки в Русское Устье, читая о нем, я удивлялся совпадению многих диалектных особенностей наших говоров. Просматривалось явное родство, которое показалось мне близким. Побывав на Индигирке и раз, и два, я увидел, что преувеличивал это родство. Оно, разумеется, было, но не в том соединении, в каком старший брат отстоит от младшего, а гораздо дальше – как дед или прадед отстоит от своего потомка. Если же сравнивать по говору, по произношению – еще дальше. Но о говоре отдельно.
Главное отличие: в языке русскоустьинца гораздо больше архаики, досельности. Скажи моему земляку: «Ээ, бра, пошухума баешь!» – не поймет. Ему знакомо здесь лишь одно слово – баять. Откуда взялось «пошухума» и «шухума» (зря, напрасно), сколько ни рылся я в словарях, – не нашел. Не могло оно, судя по всему, пристать и из местных языков. «Бра» – обрезанная форма от «брат», наш брат на укорачивания тоже был мастак, но проглатывал, как правило, гласные или экономил в скоплениях согласных, а тут не пожалел бы языка, договорил до конца – и даже с упором.
У русскоустьинца сохранилось в самом живом и здоровом виде то, что почти повсюду источилось до полного тлена, оставшись лишь в письменных памятниках. Тут попрежнему говорят: перст (палец), заглумка (улыбка), озойно (громоздко), бердитъ (бояться), вадига (глубокое место на реке), гузно (зад), голк (гул, раскат), изурочъе (редкость, невидаль), куржевина (иней), могун (живот), патри (полки), покром (пояс для пеленания ребенка), шигири (стружки дерева), шархали (сосульки), коржевина (ржавчина), иссельной (натуральный, настоящий), карга (гряда, полуостров), клевки (черви) и т. д., и т. д.
И уж вовсе забыли и потеряли мы из старославянского иверень (часть, кусок, осколок); в болгарском – ивер, в чешском – ивера, означающих щепу, стружку. Обращаться к болгарскому, чешскому и словацкому приходится потому, что в них лучше всего сохранилось славянское корневище языка – и вот какие перемахи из Европы на крайний азиатский север надо делать, чтобы из живых уст услышать драгоценную однозвучность. В болгарском «до повиданья» так и осталось, есть оно и в Русском Устье. Как и исток (восток), в болгарском – изсток. И живот на Индигирке сохранился в значении жизнь, имущество.
В наших краях говорить лишнее, болтать выражалось словом «травить», в Русском Устье более старым – древитъ. «Инде» у нас доживало в значении усилительной частицы, а здесь, как и всюду в древних летописях, – «в другом месте».
Непросто было доискаться, почему шустрые дети называются в Русском Устье облачными. Какая тут, казалось бы, связь? – это так далеко: шустрые и облачные. И только оборотясь к языческим временам славян, извлечешь оттуда: облачные дети, облачные девы – проказливые, устраивающие игрища. У А. Н. Афанасьева в его «Поэтических воззрениях славян на природу» читаем: «…Игрища, происходившие на русальную неделю, сопровождались плясками, музыкой и ряженьем, что служило символическим знамением восстающих с весною и празднующих обновление жизни грозовых и дожденосных духов. Принадлежа к разряду этих духов, русалки сами облекались в облачные шкуры и смешивались с косматыми лешими и чертями».
Или вот: гнилое дерево у индигирщиков – глинчина. На первый взгляд звуковая подмена: глин – гнил. И так оно и есть, только не случайная, не для удобства произношения, перестановка: в древнерусском гнила и писалось и произносилось как глина.
И так далее. Примеры живой (еще недавно живой, сейчас отживающей) языковой древности можно продолжать и продолжать. В Ожогине, русском же селе верстах в ста выше по Индигирке, куда первонасельники, бесспорно, спустились из Якутска и где их потомки впоследствии сильно объякутились, язык столь глубокими приметами, такими отковыринами от древности уже похвалиться не может. Ну что, казалось бы, сто верст для тамошних размахов, а разнице в говоре, в обычаях удивлялись еще в XIX веке. Не есть ли это в первую очередь доказательство особого и отдельного отслоения русских, заселивших последние низовья Индигирки?
И природный мир, и хозяйственный уклад был здесь во многом иной, чем на старом Севере. Лучше всего лег на новообитель и обогатился язык, относящийся к «стихеям» воды и ветра. Шелоник (юго-западный ветер) и здесь остался шелоником, как и всюду по рекам; низовка – оттуда, куда уходит течение, верховик – откуда приходит. Северо-западный ветер называется ниже западу, восточный – сток, северо-восточный, холодный и резкий, – худой сток, юго-восточный – теплый сток или обедник. Но посмотрите, как разросся в названиях ветер по отношению к реке: по течению – понизной, против течения – по плесу, от своего берега – отдерный, с противоположного – прибой. По отношению к движению человека: противной, пособой, боковой.
Вадига, ямарина (яма на реке), шивер (подводный камень), курья (залив на реке), осинец (глыба льда), мичик (мелкий лед), карга (полуостров), кулига (залив), ердань (прорубь), антиях, огибеиъ, улово, быстрядь, кибас (грузило на сетях), няша и т. д. – все это сразу приставилось к Индигирке, к ее берегам и водам. Как и калтус (мокрое место), веретье, лайда, зановолочье (зарастающее озеро), едома, виска, тайбола (необжитая глушь), разлог – легло на тундру. Легло даже больше, чем было в ней «кости» на языковую одежку: елонъ или елань – значит расчистка в лесу, однако чистить здесь было нечего, и тем не менее елонь каким-то совпадением прижилась. Прижилась даже «дубравушка», ставшая обозначением любой растительности.
Не было, как упоминалось, скота – скотом стали называть собак. Тогда уж и конура для собаки – стайка. Мести пол – пахать. Медвежата, волчата превратились в цыплят. Зензинов упоминает о бедности языка русскоустьинца, но, уже судя по тому, какие усилия и извороты употреблял язык, чтобы не потерять в отрыве ни красоту свою и гибкость, ни трудовую и обрядовую основу, ни точность, нужно считать за чудо меру его сохранности. Едва ли не половина предметного и природного мира в новых условиях исчезла из жизни русскоустьинца и должна была без употребления отмереть, в свою очередь, новая предметность, явленность и видимость, имеющие названия в местных языках, должны были влиться в язык и занять в нем законное место, как это произошло всюду, где русский человек оседал рядом с инородцем. Заимствования в говоре русскоустьинца есть, десятка три-четыре якутских и юкагирских слов вошли в плоть собственного языка неотрывно, прежде всего прижились в первоназванье, как бы поданные голосом самой северной природы, промысловые предметы и действия, некоторая одежда и утварь. Еще три-четыре десятка слов русскоустьинец может ввернуть в разговоре, но без особого веса, имея им наготове замену. Вообще же надо только поражаться, до чего памятливым, выносливым и сильным показал себя здесь русский язык, без крайней нужды не взяв ничего постороннего и до последнего звука держась и воюя за свое. У А. Г. Чикачева, русскоустьинца, о котором уже упоминалось, в его записях: «Русские, заимствовав у местных меховую и промысловую одежду, давали ей свои чисто русские названия: малахай, шаровары, дундук, бродни, шаткары. В то же время сохранили севернорусский костюм: сарафан с передником, форму повязки головного платка, шапку-ермолку, мужскую рубаху с жилетом». И так во всем.
Зензинову, вероятно, язык показался бедным с точки зрения образованного и книжного человека XX века. У русскоустьинца, вровень с ним в одном времени очутившегося как бы и не по своей воле, не могло быть той пространности и гибкости мысли, какой жаждал политссыльный для общения. Индигирщик, привыкнув подолгу оставаться один на один с сендухой, и чувства свои выражал односложно. Но в этой звуковой односложности накапливались и емкость, и радужность, и речивость, но понятны они были лишь человеку из этого же круга. Если в каждой нашей семье на родном языке проступают «родимые пятна», никому, кроме своих, недоступные, всякие там «художества» в словах и образованиях, то без них не обошлось и в замкнутой общности. И что из того, если постороннему они могли показаться назойливыми и бессмысленными?!