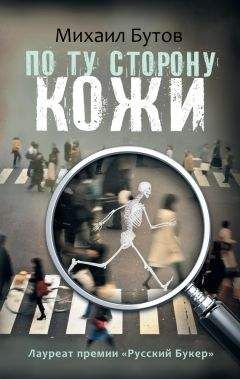Я объяснил, откуда мы, почему оказались в этих местах. Потом набрался наглости и спросил: «А вы ведь приезжий, наверное, нездешний?» Он пожал плечами: «Ну да. Из Петербурга. Но уже пятнадцать лет живу тут, с приемной дочерью. Правда, теперь она поступила в институт, приезжает только на каникулы. Позвала вон своих друзей, анархистов. Помогают мне. Видели, они там свой флаг повесили?» Нет, флага я как-то не заметил. Ветра не было, не развевался анархистский флаг, какой он там должен быть, вроде «Веселого Роджера», черный с мертвой головой и костями? Анархисты вдалеке работали косами довольно энергично. «А кроме вас тут вообще кто-нибудь еще есть?» – «Только летом. Там впереди два двора. Одни живут в Тихвине, другие тоже питерские. Раньше были старики, но все умерли. Дома тоже старые, разрушаются. Вон у нас памятник архитектуры… – И он показал на хаотическую груду серебряных от времени бревен. – Охраняется государством. То есть на дрова не растащишь. Я табличку отодрал, чтобы не выцветала, в доме храню».
Груда бревен представляла собой, оказывается, помещичью усадьбу середины девятнадцатого века (помещиков он назвал, но я, конечно, забыл). Здесь однажды побывал композитор Римский-Корсаков. И кому-то признавался, о чем упомянуто в соответствующих мемуарах, что пение бочевских крестьян произвело на него сильное впечатление и отозвалось впоследствии в каком-то из его сочинений. Мне до сих пор хочется как-нибудь засесть, провести исследование, выяснить фамилию помещиков, мемуариста, название произведения с эхом бочевских песен.
«Нет, – улыбнулся он, – здесь не такая уж глушь. Это видимость. Дорога бойкая. Автобус приходит. Раз в трое суток».
Повисла пауза. То есть и я, и он – я чувствовал – были бы не против продолжить разговор. Так бывает, случайных людей вдруг сразу, сама собой, объединяет очевидная аура взаимной симпатии. Но это уже потребовало бы выхода из нашей мимолетной ситуации. То есть, задержись я еще на чуть-чуть, он бы наверняка пригласил меня, всех нас, выпить чаю, пообедать, а это несколько часов, а впереди еще семь сотен километров, нужно подумать о ребенке, не ночевать же здесь, в конце концов, жена в любом случае не согласится… Я попрощался. Пожал ему руку. Он спросил: «Вам ничего не нужно? Вода? У нас хорошая вода…» Но мне не нужна была вода, минералкой мы запаслись, а выливать ее, наполнять пластиковые пузыри новой… – все равно вода в машине нагреется мгновенно, сделается противной, и станет безразлично, из какого там чистого она родника.
Я вернулся к своим с ощущением, будто упускаю что-то важное, но вместе с тем и в радостном возбуждении. Как ни выспренно это звучит, но мне действительно казалось, что я прикоснулся сейчас к подлинной России, которую, как известно, не понять и не измерить (собственно, такого рода многозначительные слова мне приходят на ум исключительно в подобные – и очень редкие – катарсические моменты). Я восторженно рассказывал про анархистов: вот такого – анархистов с флагом на сенокосе в деревне, куда транспорт добирается раз в трое суток, – точно нигде больше не встретишь, вот оно – русское! Никиту, конечно, более всего заинтересовал флаг. Но сколько он ни выглядывал его, высунувшись в открытое окно, когда мы уже тронулись с места и маленькое Бочево уплывало назад, так и не увидел. Не хватает, видно, потребного ветра, чтобы черное знамя анархии взметнулось над Русью. Мы ехали теперь по удивительной красоты местам, дорога то разрезала дремучий – но уже скорее среднерусский, чем северный, – хвойный лес, то вылетала на высокие луга, и впереди раскрывались такие панорамы, что захватывало дух. В следующие полтора часа навстречу нам попались только двое детей на велосипедах. Судя по всему, мы с бочевским хозяином по-разному представляли себе, что такое бойкая трасса и оживленное движение.
Я рулил и выдумывал ему судьбу: кто он, что с ним случилось, почему удалился из города, откуда у одинокого пожилого человека приемная дочь? Пытался сочинить ситуацию, при которой я мог бы еще когда-нибудь в Бочево вернуться. Мы молчали. Жена отколупывала от штанин присохшую грязь. Прошло уже довольно много времени, которое в нашем случае можно было мерить что минутами, что километрами. И тут Никита спросил:
– А кто такие анархисты?
– Ну, – сказал я не особенно задумываясь, потому что для меня это давно стало вроде игры: отвечать бойкими короткими определениями на «наивные» детские вопросы типа «что такое политика?», «я тоже когда-нибудь умру?» и «откуда берутся дети?», – анархисты – такие люди, которые не признают государственной власти, считают государство злом, считают, что жизнь общества должна быть организована без государства.
– Папа, а ты анархист?
Тут я снял ладонь с рычага передач и почесал в потылице. Прикинул, как бы все это объяснить десятилетнему ребенку, и решил ничего специально не адаптировать. Поймет. А не поймет – не страшно.
– Тут вот какая штука, – сказал я. – Поскольку я уже взрослый дядька, должен рассуждать здраво, имею представление об истории человечества, умом я понимаю, что без государства никак не обойтись. Государство, каким бы оно ни было, все же так или иначе выполняет некоторые совершенно необходимые для существования людей функции. Пожалуй, главная из них – государству люди передают право на насилие, отказываясь от насилия сами, и это мудро, потому что иначе люди истребили бы друг друга или были постоянно заняты кровной местью и у них не хватало бы времени на другие дела. Ты вполне можешь считать, что государство возникает из страха. Потому что вне какого-то людского объединения одинокий обречен перед лицом любых двух, сговорившихся, чтобы совершить насилие, отнять чужое. А где объединение – там обязательно власть, потому что так или иначе кто-то должен принимать решения, хотя бы руководить массой людей, даже если решения принимаются по принципу «кто кого перекричит». Кто-то должен осуществлять судебную процедуру, определять и наказывать преступников. Наконец, вести войско, когда война. Вот тебе уже и зачаток государства. Но кроме того, государство – это форма, в которой людские сообщества, народы проявляют себя в истории. Вот были когда-то кочевые племена, бродили себе на небольших пространствах в степях, ну, соседей беспокоили, но ни на что особое не претендовали, сейчас бы о них никто и не вспомнил. А потом появился у них Чингисхан, ему хотелось исторической роли, хотелось завоевать мир – и сразу понадобились и правильная организация армии, и многоуровневая система начальников, и сложный механизм сбора податей, и соблюдение строгих общих порядков. А сейчас, даже если речь не идет о военном завоевании, стремятся, например, к экономическому преобладанию над другими странами, а это тоже требует и сложной внешней политики, и целенаправленного принятия законов, чтобы создать для своих благоприятные условия. И оборонять себя, свою страну, разумеется, нужно всегда. Так что без государственной власти, получается, никак не обойтись. Значит, я не анархист. Но это одна сторона медали. А с другой стороны…
– Ты руль все-таки держи, – сказала жена. – Не размахивай руками.
– А с другой стороны, мой собственный опыт власти, жизни под властью, опыт моих родителей, дедушки с бабушкой – все это совершенно чудовищно. Я даже с чужих слов не могу сказать о власти ничего доброго. Да, и в нашей стране власть, государство тоже обороняло, судило и прочее – иначе бы вовсе не было государством. Только делалось это всегда невероятно вывернутым образом. Как бы и не тебя защищали, поддерживали, а что-то исключительно свое собственное посредством тебя, и впору было одновременно от самой власти искать защиты – а где? У нас обычное дело не моргнув глазом поломать судьбы, а то и просто уничтожить десятки тысяч людей ради миража, который впоследствии просто развеивается, исчезает. Или ради самодостаточной идеи государства, когда оно уже не из кого, не для кого, а объявляется высшей ценностью само по себе, и ему требуется приносить жертвы. Или, что циничнее всего, ради весьма приземленных, властных и денежных интересов очень небольшой группки людей, которая начинает считать, что она-то и есть государство, уже не сомневается в своем неотъемлемом праве устраивать жизнь только под себя. Поэтому у нас можно запросто угробить несколько сотен солдат в военной операции, спланированной генералом-идиотом, и его даже не пожурят, ведь эти конкретные солдаты не являются частью государственной идеи, новых пригонят, они попросту никого не интересуют. Точно так же, как никого не интересуют жители какой-нибудь деревни, на месте которой сильным мира сего вздумается возвести загородные виллы: мы пришли – убирайтесь вон. С солдатами так было вообще всегда: и в Отечественную войну, и в Афганистане, и в Чечне. Это позор – а выдается за доблесть. И жить у нас всегда было как-то бессмысленно тяжело: жизнь действительно трудная работа, но здесь как будто нарочно заставляли и заставляют пробираться словно в вате, и чтобы голову не поднял, под постоянным давлением, о котором даже молодость не позволяла забыть, если не уходить совсем в партизаны, а уж когда ответственность возникает, появляется семья… Все, чего удается достигнуть, все, что у нас с тобой есть сейчас: вот машина нас везет, в квартире мы живем в Москве, и даже наше хорошее настроение от чудесного летнего вечера, от красивых мест – это странным образом получается не благодаря государству, а вопреки ему, это то, что по какому-то недосмотру не сумели у нас отобрать. Прежде мне казалось, что и не сумеют, выстоим, а теперь я постарел, наверное. И немудрено, что с нашим государством мне очень трудно, почти невозможно представить себе какое-нибудь общее дело – непременно выйдет, что мне придется действовать в чужую пользу, не в общую, именно в чужую, а я так не согласен. И персонажей, которые это государство олицетворяют, я физически не выношу, видеть мне их противно – что прежних изуверов, что нынешних бездарных паразитов. В анархизме нет никакого положительного начала, на его идеях ничего не построишь. Но это задорный, иногда, наверное, трагический, освобожденный от гнета реальности протест против того, что мне омерзительно. И что бы я там ни знал, ни думал, моя душа не может на такой протест не отозваться. Так что какой-то частью души я – да, анархист.