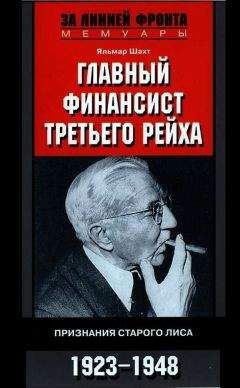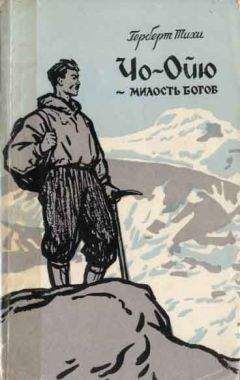И вот я – во «владениях» Инны и Годика. Им выделили на четвёртом этаже две комнаты – одна против другой. Выяснилось, что Лиснянской, бакинке по происхождению, моё имя было известно ещё с тех пор, когда я служил в Нахичевани-на-Араксе и порой печатался в молодёжной республиканской газете и «Литературном Азербайджане». А уже в Москве, как писала она в «Литературной газете»[53] в заметке «Приближение бессмертия», ей доводилось слышать обо мне от Александра Межирова, читавшего наизусть мои стихи. При мне, в общежитии, Инна написала о себе: «Я и время – мы так похожи! Врозь косые глаза глядят…» Она внимательно присматривалась ко времени. Светлана, после чаепития в одной из комнаток «у Лиснянских» (Гриша Корин подпадал с лёгкой руки Кузнецовой под это утвердившееся у нас понятие, на что нисколько не обижался), подметила:
– Согласись, эти глаза делают её красивой. Привлекательные, странные. Она видит ими то, что другим никогда не увидеть!
Не зря, конечно, появилось стихотворение «Спрошу я, мгновенье ловя…», также посвящённое Светланой своей подруге: «…Под холодом утренних рос лишь тот соловей не забудет жестокий, проклятый вопрос: – Что будет со мною? Что будет?» Да, как хотелось узнать: что же будет? Ни Лиснянская, ни Кузнецова на такой вопрос ответить тогда не могли…
В закнижье «Шкатулки с тройным дном»[54] Инна написала: «Немногие читавшие мою книжку, наверное, заметили, что только в своих мысленных беседах я называю поэтов по имени и отчеству. Ограничиваюсь одними фамилиями не случайно. Фамилии уже давно стали именами: Пушкин, Баратынский, Тютчев, Лермонтов, Фет, Блок. Несколько коробит меня нынешнее амикошонство». Но я надеюсь, что моё обращение к Лиснянской – отнюдь не амикошонство, а давняя, очень давняя дружба, «поклоненье, на любовь помноженное».
(Из неотправленного письма: «Я начал это письмо к тебе, вернувшись из поездки в Кобыстан, но не знаю, закончу ли его сегодня. Уже ночь. Гостиница моя – на улице Хагани (б. Молоканской), самой первой, открывшейся мне в Баку ещё в пятьдесят шестом, когда я приезжал сюда на пару дней в солдатской форме по приглашению „Литературного Азербайджана“ (командир артполка отпустил меня неохотно, но так как я „подтягивал“ его сына по литературе и языку, согласился).
После древней, пыльной Нахичевани эта улица с её сквером, отделением Союза писателей (дом № 25), обладавшим собственной крохотной „чайханой“, с Дворцом каспийских моряков, русским драмтеатром показалась мне нарядной и изрядно освещённой. Сегодня я поклонился ей как старой знакомой. Я долго искал то место, где когда-то неподалёку от церкви и возвышавшейся над перекрёстком Девичьей Башни, в олеандровом дворике находился воспетый тобою в поэме[55] госпиталь лицевого ранения, в котором ты девчоночкой была принята на должность санитарки и пела там в хоре для раненых; еле-еле нашлось оно у моря, „покрытого масляным лоском“: мне нетрудно было представить здание это в свете „маскировочно-жёстком“, морг, возле которого ты, чтобы передохнуть, затягивалась „сладким вечером“ и махорочным дымом; как ослепший солдат, посчитав тебя взрослой, попытался прижать тебя к доскам забора и лихорадочно стал искать вырез твоей тесной матроски и как поспешил на помощь вечно спавший в гробу санитар-алкоголик, чудом уцелевший „кулак“ и штрафбатник, с криком: „Олух безглазый, она ж малолетка!“
Забросив пятый класс и книжки, ты очутилась в этом очаге боли, страданий, отчаяния – может быть, для того, чтобы из дня нынешнего видеть себя там „меж госпитальным и ангельским пеньем“, чтобы навсегда твоя „память осталась вечным подростком“. Днём меня возили в Кобыстан; ты бывала в этом гористом урочище на берегу Каспия и дивилась наскальным „галереям“ петроглифов, где легко разглядеть силуэты лучников, косуль, хороводы человечков с копьями и нечто напоминающее солнечные лодки.
“Вслушиваясь“ в эхо прошлого, дошедшего до нас через века и тысячелетия, ну как мне было не подумать о твоей „Бутылке с запиской“?.. Ты имела право сказать: „Я в гости приду виноградною тенью и зыбью на море, пятном на стекле. Простите за краткое стихотворенье, Оно не короче, чем жизнь на земле“.
Это ли не символично на фоне того олеандрового дворика с тем госпиталем, Девичьей Башни и Кобыстана, уместившегося на террасе горы Беюк-Даш? Когда-нибудь я допишу это письмо, а пока оставлю его в тетрадке рядом с гостиничным телефоном, к которому прилеплена бумажка с забавной надписью: „Акуратна крутит чиверблат“. Засну – и вдруг мне приснится наше общежитие на Добролюбова, 9/11…»)
Но приснилось мне не общежитие, а двухкомнатная квартира, которую Инне и Грише всё-таки «дали» в кооперативном доме в Химках, в Левобережном районе, у самой Кольцевой автодороги. Это было огромным событием.
Светлана радовалась, будто вот-вот и ей выпадет такая сказочная удача. Не зря же с убийственной иронией, неверием в меня, в мои возможности она писала мне в Тбиоиси:
Рискнуть? Рискну. И я рискую.
Я на бумаге дом рисую.
Он очень светлый. Он с трубой.
Он до абсурда голубой.
Полы в нём щёлоком помыты.
Мы в этом доме ждём гостей
Из всех поныне знаменитых
И позабытых волостей.
Вот гости к нас идут по тропке…
Но краски кончились в коробке.
Мы праздновали новоселье. Кроме меня, все ликовали. Накрывали стол. Светлана несла из кухни стул. Я хотел ей помочь. Она увернулась:
– Это я несу!
И я понял: это Янису. Куда яснее?
Вот всё и решено. В самом деле: краски кончились в коробке. Пришлось ей, к сожалению, приобретать другие краски…
Но, как ни странно, мы ещё немало дней и недель вдвоём ездили к Грише и Инне. Впрочем, скорее – по привычке.
Светлану уже ждала Старая Рига с улочками, которые выложены булыжником и дышали Средневековьем. Это обернулось ещё одним разочарованьем. В цикле «Ян» она писала: «Полосы пограничные. Глаза твои заграничные. У тебя глаза подзарённые, а мои глаза позарёванные»; «…Словно нежданно меня оторвали от суеты и от дела. Словно звенели хрусталинки звонкие, словно подружки тужили, словно вели меня за руки тонкие долго путями чужими». Инна жаловалось, что Светлана очень редко пишет письма.
Ну а меня ждал Будапешт и дом на Площади Героев, клубы, где играли самый настоящий джаз. Сослуживцы мои упивались каждым днём в Венгрии, знали, где какой магазин и что почём, на выходные отправлялись отдыхать на Балатон; я же пользовался любым случаем, чтобы оказаться хоть ненамного в Москве. Останавливался я у Инны и Гриши. Где же ещё? Разговоров о Светлане мы, как по команде, избегали. И она вестей из Риги не слала. Зато были – стихи, стихи, стихи. И всё новые. И всё – высокой пробы, от которых я шалел. Лиснянская блистала! Она вынашивала их до глубокой ночи. Будила меня, звала на кухню, читала «в обезумевшей тишине». Строки появлялись, чтобы поражать и запоминаться. Меня завораживала их страсть, питаемая стремлением к свободе и ненавистью к несвободе. Обжигало: «Не затем жила, чтоб не знать о боли, а затем жила, чтоб не знать неволи». Было ясно, что Лиснянская нашла то, что искала, – и теперь от себя не отступит ни на шаг.
Сама по нутру своему выбирай
Свой путь, свой удел, свой уклад,
Не то преисподней покажется рай,
И раем покажется ад.
А выбрала, так никогда не жалей
Ни песен, ни башмаков!..
И выбрала я печальных друзей
И беспечальных врагов.
Это действительно был её путь, и в быту, и в творчестве, подтверждавший, как мне казалось, правоту Олдоса Хаксли, в знаменитом романе-антиутопии «О дивный новый мир» сказавшего: «В искусстве тоже существуют свои этические правила, и многие из них тождественны или, во всяком случае, аналогичны правилам морали житейской».
С вечно погружённым в себя Годиком Кориным мы были дружны очень долгое время. Он был человеком хлебосольным, по-доброму расположенным к людям – ко всем, без разбора. Светлане Кузнецовой он этим нравился, она искренне уважала его. Не нравилось ей только то, что у него пропала вера в себя. «Почему?» – спрашивала она участливо. Он ответил строчками (1964), посвящёнными ей:
Все мои кони
Рисованы,
Слеплены —
То в коленкоре,
То в глине,
В стекле.
То – архаичны,
То – абстракто-нелепые,
Ни один из коняг
Не прошёл по земле.
Но все они быстры,
Готовы помчаться.
И обожжены,
И напряжены…
Но все мои кони
Никуда не домчатся —
Они не для этого рождены.
Светлана спрашивала меня: не замечаешь, как скрытен Годик? Да, о своём детстве и фронтовом прошлом он помалкивал. Даже в День Победы, когда мы собирались за праздничным столом, он без всяких тостов пил водку, играл желваками, а если гости приставали с расспросами о войне, отвечал односложно: «Всякое бывало». Удивительно, но о подробностях его детства и юности я узнал от него лишь в начале восьмидесятых годов, когда мы оба были в Переделкине. Его комната в старом корпусе Дома творчества всегда была одна и та же – сороковая, прямо напротив медицинского кабинета, на первом этаже. «На всякий случай, – говорил он, подмигивая. – Мало ли что?» Уже с сентября, гуляя по здешним тропинкам, Годик упорно носил жёлтую шапку с опущенными «ушами», отчего его кое-кто с иронией называл «местный Ван Гог». И верно: в нём наблюдалось некоторое сходство с великим постимпрессионистом-нидерландцем. Однажды после завтрака, когда выдался солнечный, тёплый денёчек, мы с ним зашли в беседку, сели за стол, где обычно играли преферансисты, и он рассказал о себе то, о чём я почти ничего не знал. Слава Богу, у меня есть теперь возможность прибегнуть к отрывку из его короткой, зато яркой автобиографической заметки, где сказано, что Гришины отец и мать были людьми «простыми, неграмотными»…