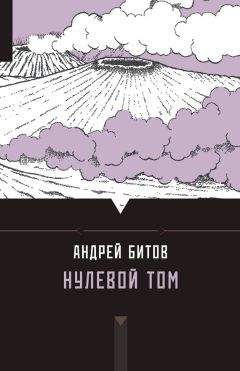Сергей Андреевич, блаженно улыбаясь, слушал из-за косяка эти речи, по-видимому, столь давно ему знакомые…
– А мясо для зверей вам как выписывают, по какой норме? – спрашивает пожилой турист.
– Я понял ваш намек, – с горьким вздохом понизил голос Иван Модестович, – это обыкновенная человеческая пошлость и неблагодарность – не верить в бескорыстное служение науке… Взгляните вот в это благороднейшее лицо! – На стене висела молодая фотография Екатерины Андреевны. – Это портрет основательницы, как вы изволили выразиться, «зверинца». Это человек подвига и бескорыстия… Должен вас огорчить и поправить: звери содержатся здесь исключительно для научных целей, и средства на их содержание до самого недавнего времени никакие не отпускались. Мы кормили их исключительно из собственных средств…
Вздох изумления, превышающий «тридцать тысяч лет».
Сергей Андреевич, не замеченный Иваном Модестовичем, покидает музей. Он идет к дому и уже видит вдали фигуру Екатерины Андреевны рядом с печкой. Он приближается, и вся игра в нем сходит на нет, неподдельная нежность освещает его лицо. Екатерина Андреевна не замечает его, чистит картошку.
Сергей Андреевич не доходит несколько шагов и останавливается.
– Ма-ма!.. – наконец разлепляет он губы, как в младенчестве, по складам.
Екатерина Андреевна встает, вот так, с ножом и картошкой, и смотрит подслеповато.
– Сереженька! – вскрикивает она. – Ну подойди же! Что-то у меня с ногами… – Она даже с недоумением посмотрела на свои разрезанные тапки. – Не идут…
И Сергей Андреевич бросается к ней на шею. Она так и обнимает его, с ножом и с картофелиной в руках, а он не догадался еще выпустить из руки чемодан.
Суровая наша молодость
Манит нас просторов горечью,
Разлуки полынной гордостью
И первая прядка с проседью… —
слышим мы самодельную песню. Туристы скрываются в тайге.
– Дай хоть потрогать тебя… – говорит Екатерина Андреевна изменившимся голосом и как раз отодвигая от себя Сергея Андреевича. – Ты на чем же приехал? – удивляется она, глядя в сторону парома, которого нет. – Похудел… Что же это я стою, дура! Ты что на меня так смотришь? Неужели я такая старая?.. Подожди, я сейчас…
– Мама, мамочка!.. – снова обнимает ее Сергей Андреевич.
Мы не видели ее такой…
Тихо.
– Сережа! Приехал, сынок… – подошел Иван Модестович. Они обнялись. – Ты прекрасно выглядишь. Возмужал, возмужал…
– Вы тоже прекрасно выглядите, дядя Ваня.
– Я что… – польщенный и растроганный, Иван Модестович старается подчеркнуть свой орлиный профиль. Они странным образом похожи, Сережа и Иван Модестович… – Я свое отжил. Теперь вы… – милостивым жестом он как бы уступает место. – Вы, молодежь, ищущая, дерзающая… Какие бараны! – вспоминает и готовно вспыхивает он. – Ты бы видел, какие бараны!.. «Булыжник». Представляешь, он сказал – про орудие каменного века! Это мне напомнило один презабавнейший анекдот, бывший в мою юность, когда я поступал в Горный корпус… Был у нас в группе такой же баран, по фамилии Пирамидальный. И вот профессор по минералогии, старый еще профессор, он всех еще «господами» звал, говорит: «А это что за минерал, господин Пирамидальный?» А тот, надо сказать, ничего не знает и отвечает, вскакивая и вытягиваясь в струнку, он бывший вахмистр был: «Булыжник, господин профессор!» – Иван Модестович смеется, смахивая как бы слезу.
Екатерина Андреевна сильно недовольна, ревниво посматривает на них.
– Опять вы, Иван Модестович, со своими байками! Сережа с дороги, вот и чемодан еще не поставил, а вы ему про какого-то Пирамидального…
– Вот ты, Катиш, не веришь. А действительно, такая фамилия.
– Сережа, пошли в дом… – наконец стронулась со своего места и засуетилась Екатерина Андреевна. – Переоденешься, отдохнешь с дороги… А ты, Иван Модестович, погоди, погоди… – отстраняет, как бы отбирая Сережу, Екатерина Андреевна. – Сережа устал, он только приехал. Он ведь не на день приехал. Ты на сколько приехал?..
Сергей Андреевич делает неопределенный жест.
Они идут к дому. Обиженный Иван Модестович отстает.
Сергей Андреевич, в джинсах и без рубашки, пластично развалился в шезлонге, подставляя солнышку свой белый торс, позволяя маме незаметно любоваться собой. Екатерина Андреевна присела рядом на ступеньку крыльца.
– А как ее зовут?
– На́на.
– Нана́? Что за дикое имя?!
– Нет, На́на. Она полугрузинка.
– Экзотично. Русскую уже не мог найти? – говорит Екатерина Андреевна, скрывая тень недовольства под разыгрываемым недовольством.
– Трудно, – смеялся Сергей Андреевич. – Сердце – интернационалист.
– А вот твой двоюродный дедушка, дядя Вася, тот, что утонул в Японскую кампанию…
– Ты мне рассказывала… Это не он ли женился на японке?
– Да-да! – обрадовалась Екатерина Андреевна памяти сына. – Он был большой оригинал и негодяй.
– Нана – совсем русская, она и слова по-грузински не знает.
– Грузины бывают довольно красивы… У тебя есть ее портрет?
Сергей Андреевич готовно полез в куртку и протянул фотокарточку не без гордости.
Екатерина Андреевна разглядывала ее за его плечом, щурясь, отставляя, поджимая губы.
– И что, она действительно хорошо поет?
– Божественно, – объективным тоном говорит Сергей Андреевич.
Тут появляется нелепая фигура Ивана Модестовича с ломаным шезлонгом на плече. Екатерина Андреевна поспешно сует фотографию себе в карман.
– Примите́ муа, то есть пермитё, посидеть в вашем обществе?
– Это же совершенно сломанный шезлонг! – возмущается Екатерина Андреевна.
– Антр-ну, вы всегда что-нибудь прячете, когда я подхожу…
– Знаете ли вы что-нибудь кроме «антр-ну»?
– Жаме́. Так что вы спрятали?
Сергей Андреевич хохочет. Иван Модестович умудряется как-то разложить этот костер из палок.
– И ничего я не прятала! – обижается Екатерина Андреевна. – Я просто говорила Сереже, что он стал поразительно похож на Василия Константиновича.
– Японца?.. Опять вы расхвастались своими родственниками.
– Нет, правда, Сережа! – удивляется Екатерина Андреевна реальности собственной фантазии. – Ты действительно стал поразительно на него похож. С этой бородкой…
– Что ж, мода как раз сейчас и обернулась почти на век назад, – соглашается Сергей Андреевич.
– Я сейчас тебе покажу… – готовно поднялась Екатерина Андреевна.
– Что ты, мама, посиди, отдохни…
– Да мне совершенно не трудно. Принести тебе еще чего-нибудь… киселя ежевичного?
– Да нет же, мама. Я совершенно, совершенно сыт!
– Ежевика в Москве не растет… – Екатерина Андреевна скрывается в доме.
– Ну, как там у вас… – говорит Иван Модестович, важно закуривая, – делает уже кто-нибудь трансплантацию?
– Вы имеете в виду пресловутую пересадку сердца?
– Хотя бы.
Сергей Андреевич чуть усмехнулся.
– Не знаю. Официально не сообщали.
– А неофициально? – оживился Иван Модестович.
– Не в курсе, Иван Модестович. Моя работа далека от этих сенсаций.
– Я тоже вообще-то не верю, – пренебрежительно сказал Иван Модестович, – что кому-нибудь удастся преодолеть барьер тканевой несовместимости.
На последней фразе возвращается Екатерина Андреевна.
– Вот, Сереженька, взгляни! – она подает ему альбом, держа в другой руке кружку. – Я заложила страницу…
Альбом заложен фотографией Наны. Сергей Андреевич поднимает глаза на Екатерину Андреевну и понятливо прячет снимок. Дядя Вася сидит в центре большого японского общества.
– Ты не можешь себе представить, как был разгневан мой дед всей этой историей его женитьбы! Он был очень суровый человек, со строгими принципами, считал, что ему не повезло с детьми. Сам посуди: один его сын, твой дед, женился на мещаночке, твоей бабке, младшенький, Алексей, – застрелился в Париже, влюбившись в актрису Комеди франсэз, а этот – вообще женился на японке…
С соседнего шезлонга доносится храп. Ивана Модестовича разморило на солнце.
– Вот так: выспится днем, а ночью бродит по дому, как призрак, и стонет: кости болят… Я никогда не могла понять, насколько он болен, а насколько прикидывается… Но теперь нам хоть поговорить удастся. Ты не представляешь, как он всюду ходит за мной, а главное, совершенно не может сдержать свой язык: все сразу станет известно на сто верст в округе…
– Это ты, – довольно смеется Сергей Андреевич, – правда?
Он показывает на фотографию: вот в засвеченном саду, таращась в аппарат, стоят, как горошины из одного стручка, по росту три сестрички, один братишка: братишка держится за огромную плетеную корзину-коляску; все смотрят круглыми от восторга и ужаса глазами прямо в объектив… Быстро мелькают годы, еще быстрее эпохи.
– Я… ты узнал?
– Ты не изменилась, ты, наверно, всю жизнь была одна и та же. Тебя можно хранить в Севре близ Парижа…