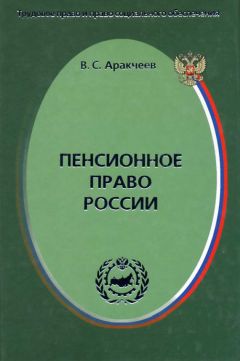Ознакомительная версия.
– Это каким людям? – спросил Адам.
– Обыкновенным. Мне, например, – отвечала старуха. – Жизнь моя из-за тебя вся кубарем пошла.
– Я чайку поставлю, – перебил ее Адам. Он проковылял в угол, где на голубой табуретке стояла керосинка, зажег ее и поставил коричневый эмалированный чайник. – Гулю, дочку Ивана Дмитрича, давеча на кладбище видал, – желая переменить разговор, сказал Адам, прикручивая ударившую копотью керосинку.
– Это какого Дмитрича?
– Командира полка моего, ординарцем я у него в войну был. Один он, Иван Дмитрич.
– А-а… припоминаю, рассказывал. Красивая баба? – живо спросила старуха.
– Красивая… – проникновенно сказал Адам. – Я не об том, а что красивая – точно. Могилу его хорошо содержит: цветы, кусты, вроде как елки, туи, что ли… Застала меня у самой его оградки. Извините, говорит, дедушка, сколько лет вас здесь на кладбище встречаю, все спросить неудобно: к кому ходите? Или вообще? Глазища черные такие, ласковые, так и снуют – стеснительная душа… Как она спросила, так сердце во мне и захолонуло. Стою, и язык отвалился. Еле сообразил: так, говорю, к ребятам – в сторону солдатских могилок киваю, – товарищ у меня тут, Федотов, вон номер четыреста десятый. Я как раз перед этим среди могилок красноармейских ходил, рассматривал, – пояснил Адам старухе. – Дощечки им новые сделали с мрамору так: длиною – на четверть, высоты – с ладонь, золотыми буквами – фамилии, год рождения-смерти, номер могилки, звание. Все по чести написали, и то слава богу!
Адам прошел к столу, сел, подперев щеку, сделал глубокую затяжку.
– «Или вообще» – то исть нищий, значит, – проговорил Адам, выпустив к полу светлую дымовую дорожку. – Уковылял я быстрей от греха.
– А где она живет-то? – прикрывая ладонью смачный зевок, спросила старуха. – Эко разморило… Скорей бы чаек вскипел!
– На вашей стороне, у порта, да я не об этом… Душа у меня, Марья, вся переворачивается. Другой раз встречу ее – ей-богу, не выдержу, откроюсь! Ей-богу, откроюсь! Эх, Марья! – легонько, но яростно стукнул Адам кулаком по столу, на глаза его выступили слезы. – Откроюсь, не могу терпеть больше. Пускай жизни лишают! Как он меня любил, Иван Дмитрич, какое сердце имел человек! Во всю жизнь такого человека, как он да Афанасий Иванович, больше я почти и не видел. Из-за него я сюда и пробирался, в этот город. Об семье он мне много рассказывал, адрес я всегда помнил: Краснофлотская улица. К нему сюда я и бежал через все леса, реки, горы потому, чтобы защитил он меня, опознал, что я есть из себя, подтвердил бы чтобы, какой я такой человек, душой всей русской земле отданный. Почти три года мы с ним с боя в бой шли. Рассталися, как я тебе рассказывал… Приехал сюда в город днем, часа в четыре. Помню, тепло было, летом… От Ростова по тамбурам так и доехал. Поднялся с вокзала по лестнице этой каменной, перешел площадь, за угол выхожу – навстречу гроб несут, оркестр играет военный, подушечки впереди с наградами…
Адам выбил трубку на черствую свою ладонь, бесчувственно растер комочек уголька, приподнялся, выкинул пепел в окошко.
– Заварка-то у тебя где? Уже вона прыгает чайник. – Тяжело встав, старуха направилась к полке, приколоченной к стене и завешенной чистой марлей. – Ага, нашла! А чайника заварного так и не купил? Прямо в тот сыпать?
– Сыпь, – отвечал Адам. – Так вот… Подушечки впереди с наградами… Притулился я к стеночке, жду покойника в лицо глянуть… Поднесли – он. Не дождался меня Иван Дмитрич, дня какого-то не дождался. В голове у меня все кругом пошло, смешался я с толпой и потемешился незрячий следом за гробом вместе со всеми на кладбище. Мать его я сразу отличил и дочку Гуленьку. На кладбище речь говорил майор какой-то, чернявый, верткий такой: мол, гвардии полковник Ермаков Иван Дмитрич умер от ран, полученных в Великую Отечественную войну… и так далее… Крышку забили, засыпали, и я комок бросил… Салют тройной отдали. Вот так и захлопнулось мое спасение. Весь наш полк в том бою погиб. Он один, может, и был, что до дому добрался помереть, да таких, как я, горемык, с сотню набрали фрицы, полумертвых, бессознательных. Поплакал я у него на могилке: осиротил ты меня, Дмитрич, обрезал всю надежду! Да не возвращаться же назад! Вот так и осел здесь, так и доживаю, из жизни выкинутый, как слепой кутенок посреди реки из лодки.
– Ну и слабый же ты стал, Степаныч! – расставляя чайные чашки, проговорила старуха сожалеюще-усмешливо. – Эко тебя с поллитры на двоих повело, в слезы вдарило!
– Глупая ты дура, Марья! – смахивая с обвислых щек слезы тылом ладони, сказал Адам. – Водка тут ни при чем. Жизнь мою понимать надо, понимать надо жизнь! А я ее, Гулю, в другой раз встречу – открою ей всю свою тайну, про отца все расскажу, про то, как мы с ним на войне мыкались!
– Эту глупость ты и думать забудь! – сурово и гневно сказала старуха. – Ты не один, нас бы здесь не было – бог с тобой, хоть не то что этой девке, а куда хочешь беги… – Старуха в волнении пролила чай мимо чашки. – Ты мне сейчас же слово дай, что не будешь глупости вытворять. Ты думаешь-то об чем? Ты уж молчи да дышь, Адам Степанович! – саркастически закончила старуха и плюхнулась всей тяжестью на заскрипевшую табуретку.
– Ладно, – вздохнул Адам, подвигая свою чашку густого, каштанового с золотом чая, – про вас я и правда не подумал. Эх, Марья, и как нас с тобою бог снова свел – уму человеческому непонятно! Сказано – судьба!
– Что толку-то с этого – одни хлопоты! – громко прихлебывая чай из блюдца, сказала старуха. – Горе мне с тобой, непутевым! Из-за тебя страх терплю. Другая так и на дух к тебе не показывалась бы. Эх, жизнь наша перехожая! Или еще на четвертинку скинемся? – Старуха запустила руку за пазуху.
XI
Каждый год 17 августа, в день рождения, Адам дарил себе новые сапоги. Беда была ему с этими сапогами: как и на всех одноногих, обувь так и горела на нем. Оглянуться, бывало, не успеет, а уже новые сапоги надо покупать. В иной год по две пары снашивал.
Утром, по своему всегдашнему обычаю, он отправился в город за покупкой. По случаю понедельника все магазины были закрыты, и только в рыбачьем поселке он нашел, наконец, то, что искал. Расплатившись с проворным черноглазым и курчавым продавцом, он вышел из прохладной полутьмы магазина на залитую ослепительным светом улицу.
Остро и пряно пахло морем, камнями, посветлевшими от зноя, зелеными лентами водорослей, теплой гнилью тарашек, выброшенных ночным приливом, соленой свежестью воды. Неподалеку, на бондарном заводе, визжала лесопилка, и запах моря смешивался с терпким запахом сосновой смолы. И это дивное сочетание двух великих земных стихий – моря и леса – делало мир еще необъятней и сладостней.
– Э-хе-хе! – полной грудью вдохнул Адам резкую, пьянящую смесь воздуха. В носу у него защекотало, и на глаза навернулись слезы от беспричинной радости существования, которую ощутил он в этот миг.
– Вот и еще год… Шестьдесят пять, а будто и не жил на свете! – растерянно пробормотал Адам, остановившись и глядя в море. Море цвело. И от этого цветения было разделено все изломанными линиями на зеленые, голубые, стальные и лиловые острова. «Илья-пророк уж постарался… в воду, всю испоганил», – усмешливо подумал Адам. Влажный ветер так приятно обдувал потную голову, что уходить ему не хотелось. Пристально и проникновенно, как всматриваются в лицо бывшего в разлуке человека, глядел Адам в море.
– Пливет, дет! – звонко раздалось у самых ног. Перед ним стоял голый, коричневый от грязи и от загара трехлетний карапуз.
– Сапаи плодаес? – спросил карапуз, смешно выворачивая мокрые губы.
Пара новеньких сапог, перекинутых через плечо Адама, поблескивала на солнце зернистой кирзой.
– Сапоги? Сапоги-то? О-хо-хо! – ликующе рассмеялся Адам. – На что они тебе, голому? Не продаю – токо купил вон у вас, в ларьке.
– Засем тебе два? Нога ана – засем два сапаа? – спросил мальчишка.
Адам хотел было ответить, но тут мальчишка закричал:
– Смотли! Паласуты! Ула! – и, забыв об Адаме, пустился бежать к берегу моря.
Адам поднял глаза к небу: четыре белых купола парашютов повисли над морем, раскачивая на невидимых стропах куколки человеческих фигур. Высоко в небе разворачивался для нового захода аэроклубовский самолет, а к месту приводнения первого парашютиста уже устремился маленький катер. Поглядев, как катер подобрал всех четырех, Адам пошел домой.
«Дотошный какой! – вспомнил он мальчишку, подходя к воротам больницы. – “Зачем тебе два сапога?”»
Настоянный на лекарствах воздух за больничной оградой показался ему сейчас особенно душным и приторным, саднил в горле. И Адам удивился, как это раньше не замечал он больничного воздуха. «Принюхался! К чему не привыкнет, к чему не притерпится человек!» – с грустной усмешкой подумал Адам.
Войдя в сторожку, он разорвал тесемку, связывавшую сапоги. Дружелюбно похлопал по размякшим от зноя, словно вареным, голенищам. Хотел примерить обновку, но передумал. Решил прежде приготовить на стол. Тщательно вытерев влажной тряпкой доски стола, Адам достал с полки две мелкие тарелки и одну глубокую, из тумбочки вынул кусок нежно-розового сала в четыре пальца, помидоры, соль, черный перец, полбутылки заигравшего янтарем подсолнечного масла, головку чеснока, полбуханки черного пшеничного хлеба.
Ознакомительная версия.