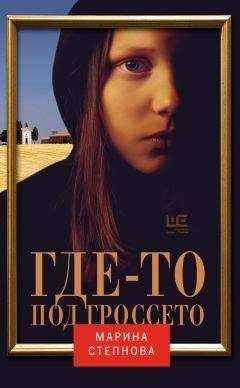Ознакомительная версия.
Расплатился вот этой фреской.
Умер. Тоже умер.
Вся мировая живопись не смогла принести Огареву утешения, зато зачем-то осталась в памяти, легла грузом – слава богу, хоть не мертвым, тихо осела на тихое дно. Вечерами он рассказывал Мале сказки про Рафаэля и Дюрера, про Боттичелли и Миро. Но тогда, в четырнадцать лет, так и не нашел кого полюбить. Оставалась только мать – тихая, уродливая, никому не нужная. Огарев, переполненный своей новой свежевычитанной жалостью к миру (оказывается, это было совершенно необходимо – жалеть!), вдруг увидел ее – ненадолго, всего на несколько месяцев, которых ей потом хватило до конца жизни и даже потом, даже потом, еще долго потом.
Мать тащила сумки. Две авоськи, оттянувшие руки, и без того длинные, нелепые, вылезшие из коротковатых обтрепанных рукавов. Все носили болоньевые плащи, модные, шуршащие. У нее такого не было. Семисезонное пальтецо. Суровое сукно. Серое. Почти шинельное. Платок, сбившийся до затылка. Душа, сбившаяся до красноты, до мякоти, почти до кости. Волоклась как кляча. Семь кило картошки. Две бутылки кефира. Сутулость. Батон за двадцать две. Пачка сахара. Каменная соль. Тяжело.
Огарев догнал, молча выхватил сумку. Одну, потом вторую. Ахнул. Действительно тяжело. Мать сопротивлялась испуганно, тянула авоськи к себе, будто не сразу узнала сына. Мам, дай. Ну дай же! Не надо, Иван, не надо, я сама. Огарев отпихнул ее – почти грубо. Надорвешься ведь, сынок! Не надорвусь. Мать покорно засеменила рядом, приноравливаясь к его уже почти взрослому шагу. Осень. Окраина. Мга. Фонари, выбитые через один, как зубы.
На углу, почти возле дома, она сделала еще одну жалкую попытку отвоевать свои авоськи. Нет, мам. Я же сказал. Отстань! Нежность, притворившаяся грубостью. Ощетиненный, обиженный, жалкий. Злой. Поняла, не обиделась. Конечно же, поняла. Почему отец не помогал ей? Никогда. Заправить пододеяльник. Подать руку. Поднести. Придержать дверь. Такая простая, человеческая забота. Огарев, не позволив себе даже раза передохнуть, дотащился до их квартиры. Зассанные углы, замалеванные суриком стены.
Сгрузил все на кухне. Потер вздувшиеся на ладонях красно-белые рубцы. Больше ты сумки носить не будешь. Мать вдруг встала на цыпочки, прижалась на мгновение мокрым бледным лицом. Большой стал совсем. Вырос. Сказала растерянно, точно взросление Огарева не было предусмотрено никакой программой. Точно удивилась.
Ночью Огарев плакал – сперва как ребенок, горько, отчаянно, жалко. В последний раз. Под утро – уже совсем как взрослый, молча. Как взрослый, давал себе клятвы, неисполнимые, тяжелые. Страшные. Все, все будет теперь не так. Но все, конечно, осталось по-прежнему. Правда, он несколько раз действительно сходил с матерью по магазинам – по большому кругу. Два продовольственных, хозяйственный, булочная, гастроном. Даже хитрушка, на которой торговали картошкой, зеленью и в сезон – ягодой, яблоками, тут же, неподалеку, в предместьях, выращенным луком. Очереди, отчаянная скука, такой же отчаянный стыд.
Оказывается, кормить семью – это было долго, муторно, сложно. Его подзабытые уже детские пробежки за хлебом и молоком казались теперь раем. Мать шарила по полкам тревожными глазами. Не выкинули ли чего нужного? Не забыла ли? Порошок стиральный еще надо бы… Мать брала его за руку (при всех! при пацанах!). Донесем, сынок? Как думаешь? Справимся? Огарев дергался от жалости, как от ожога. Тянул руку назад, к себе, прятал для верности в карман. Мать не замечала. Она радовалась их неожиданному заодно, и радость эта, тихая, прибитая, уродовала ее еще больше обычного, привычного уже оцепенения.
Они перли домой неподъемные сумки, мать робко мечтала, что вот, раз уж такое дело, может, ремонт к лету сделаем. Одна-то я не управлюсь. А с тобой мы и обои зараз донесем. И поклеим все. Отец из отпуска вернется – а у нас вон оно что! Всегда ездил один. В санаторий – на двадцать восемь дней. По путевке от завода. Всегда. А они с матерью оставались в городе. Спрашивать почему было бесполезно. Мать просто не знала. Разводила неуклюже вязаными рукавичками. То же пальто, жиденькое, продрогшее. Только вместо платка зимой извлекалась с антресолей пуховая серая шаль. И вот – рукавички.
Я не знаю, сынок.
Ремонт они так и не сделали.
Не успели.
К новому году у Огарева появилась новая жизнь, новая мечта. Интересная. Настоящая. Живая. Мать какое-то время еще семенила рядом, придерживаясь за Огарева рукой, – будто спешила за трамваем, а потом отстала, хотя перешла на бег, и только отстала еще больше, маленькая, жалкая, виновато улыбающаяся.
Одна. Снова одна.
Теперь уже насовсем.
Мужик возился в сугробе, неловко, как тюлень, – подгребал снег тяжелыми ластами, силился приподнять громоздкую тушу. Плюх, шлеп. Безвременно угасший фонарь, глухой переулок, вечер. Напрасно. Здоровенный. Сам не подымется. Огарев подошел, наклонился и подобрал сначала свалившуюся с мужика шапку – хорошую, дорогую, пушистую. Пыжик. Если бы шпана подрезала, шапку бы точно забрали. Значит, просто пьяный. Повозится еще немного, устанет, заснет и через пару часов замерзнет заживо. Нет, неправильно – не заживо, а насмерть. Огарев протянул руку – молча. Мужик так же молча покачал головой – и Огарев, сразу поняв, подставил плечо. Крякнул. Еще крякнул. Поднатужился.
Присядь, коленки согни. Так легче будет, посоветовал мужик, обдав Огарева не ожидаемым перегаром, а вкусной одеколонной волной, сладковатой, ванильной, почти съедобной. Как будто не человек ворочался в снегу, а громадный горячий батон. Отец одеколонился только в парикмахерской. Освежить не желаете? Зеленый флакон с пульверизатором. Зеленый запах «Шипра». Пшик-пшик. Коленки согни, говорю, спину сорвешь. Огарев послушался наконец и – р-раз! – гладко, как пробку из бутылки, вынул мужика из сугроба. Обстучал об коленку шапку, протянул.
Спасибо!
Мужик попробовал шагнуть, сморщился от боли, засучил штанину и ловко, будто не свою, а чужую, ощупал бледную безволосую икру. Вишь ты. Подвернул все-таки. Он был ни грамма не пьяный. Просто оступился и упал. Тротуары в их районе сроду никто не чистил, а если еще пацаны раскатают – чистый лед. Огарев, как завороженный, смотрел на вздувшиеся на ноге чудовищные мышцы. Как будто кто-то скрутил в жгут тяжелые древесные корни и приладил к живому человеку. Мужик одернул штанину, распрямился. У него было обманчиво мягкое, круглое лицо и маленький курносый нос. Куковкой. Совсем детский.
А ты молодец, сказал он с уважением. Крепкий. Во мне сто кило без малого. Лет тебе сколько? Четырнадцать, буркнул Огарев. Годится, одобрил мужик весело. И это была еще одна награда. Непривычная. Еще одна похвала. Отец за всю жизнь не похвалил его столько раз, сколько этот мужик – за пару минут. Огарев уже обожал его, конечно. Эту шапку. Этот запах. Это пальто, сероватое, в полоску, натянутое на таких же чудовищных, как икры, мускулистых плечах. Мужик положил ему на шею горячую руку, потрепал ласково, как щенка. Тощий какой. Но все равно – крепкий. Одни жилы. Приходи в Дом культуры. Спросишь Валерия Викторовича Матюкина. Мужик еще раз наступил на пострадавшую ногу, словно приноравливаясь к боли, и, пожав Огареву руку, похромал по тротуару. Хотите, я провожу? – спохватился Огарев, но мужик, оглянувшись, успокоил – сам добреду, не боись. И приходи обязательно. Чемпионом станешь.
Огарев пришел и провел в секции тяжелой атлетики четыре счастливейших года своей жизни. Только чемпионом, конечно, не стал. Матюкин ошибся. В крошечном потном спортивном зале, среди громыхающих блинов и скользких матов, Огарев стал протестантом.
Нет, никакого чуда на самом деле не произошло. Конечно, литературная традиция, слишком часто и властно заменяющая в наших широтах настоящую жизнь, настоятельно требует вознаградить героя за труды. Трансформация из недоумка – в лебедя. Сотворение человека. Посрамленный отец, покоренные одноклассники, влюбленная Неточка, суровый и одинокий уход в пылающий будущими свершениями горизонт. Предварительно – короткая и мужская драка с хулиганами, никак не ожидавшими от вчерашнего заморыша таких убедительных хуков и люлей. Огарев сам читал про такое тысячи раз. А потом и смотрел – когда открыл для себя кино, еще одну увлекательнейшую реальность, опасно соперничающую с действительностью, сероватой, пыльной, некрасиво слежавшейся по швам.
Что бы мы вообще делали без Голливуда?
На что бы надеялись? Чем бы жили?
Но – нет, никто не заметил ничего, разумеется. Книги, которые Огарев продолжал поглощать, не вписывались в школьную программу никак, даже если и были ее частью. Так «Война и мир», поразившая его, как иной раз поражают средневековые соборы, простые, огромные, насквозь пронизанные светом и временем внутри, по учебнику считалась выразителем какой-то мутной «мысли народной», зато про самое важное и интересное не было ни слова. Правда, как-то раз Огарев попытался на уроке рассказать о том, что тронуло и задело его в романе, пожалуй, больше всего. Не отрезанная нога Анатоля Курагина, не атака кавалергардов (блестящие, на тысячных лошадях богачи, юноши, красавцы, из которых в живых осталось только осьмнадцать человек), не Наташа Ростова, которую он невзлюбил сразу, как можно невзлюбить только младшую сестру, а образок. Ну, серебряный образок, который княжна Марья надела на шею Андрею Болконскому в начале книги. А в конце солдаты снимают с раненого князя уже золотой образок на золотой цепочке – и эта маленькая толстовская неточность была таким ярким и невероятным свидетельством могучего хода романного времени, что у Огарева от ужаса и счастья дыбились волоски на предплечьях.
Ознакомительная версия.