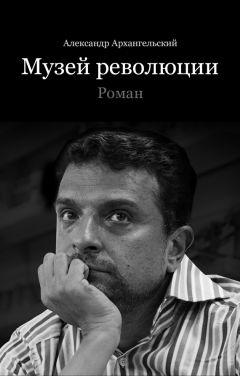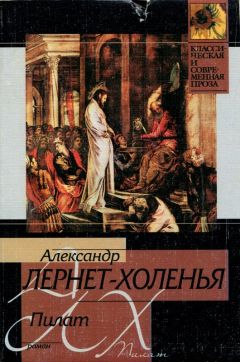Тюбики пришлось распарывать тяжелым дедушкиным резаком, обмотанным голубой изолентой. Ошметки краски я толок в тяжелой ступке; долго смешивал с олифой; получилось, честно говоря, не очень. Как перестоявшая горчица, в которой вязкая основа отсеклась от масла. Я мазнул картон; по контуру мазка поползло пятно из пахучего жира. Подделка мировых шедевров отменилась. Пришлось заняться историческими документами. Но что писать? И как? Раньше были другие буквы?
Библиотека закрывалась в шесть; у меня остался ровно час.
Отмахнувшись от расспросов про бабулю, я невежливо нырнул вглубь стеллажей. Шкаф, который я искал, сам напоминал музейный экспонат: корешки нетронутые, на срезах слой библиотечной пыли. Толстенные тома ученых монографий… на нижней полке – безразмерные книжищи в очень простых переплетах: желтоватый картон, и по нему внахлест клееный корешок. Полное собрание русских летописей. Как их занесло в наш город? неизвестно. Я их давно заметил; только не знал, что они пригодятся.
Надо было видеть тетю Клаву Неуклюеву, сидевшую на выдаче, когда над ее огромной халой в капроновой сетке, зависла книжная громадина, размером с могильную плиту, не меньше метра в длину и сантиметров восемьдесят в ширину. Ошарашенная тетя Клава покачала головой и долго-долго сидела молча.
Когда я вернулся, уже начинало смеркаться. Надо было спешить: при электрическом свете краски меняют оттенки.
Украсив алыми завитушками первую букву, я стал срисовывать все остальное, темно-коричневой гуашью, ровно, четко, по линейке.
«И быша три братья: единому имя Кий, а другому Щекъ, а третьему Хоривъ и сестра их Лыбедь…».
Бабуля была в неописуемом восторге. Всем показывала мою роскошную подделку. И на следующий год мне устроили особый день рождения, возле старого пирса, на море. Бабушка расстелила покрывало, выложила белые куриные яички, икру из свежих синеньких, крупные, как дедов кулак, помидорки, пахнущие густо, сладковато, зеленый лук, десяток кур с коричневой корочкой, запеченных в промасленном пакете, россыпь мелких креветок в тарелке, розовое сало, поджаристый хлеб; дед наварил ухи с желтыми, прозрачными жиринками; позвали Калабашкиных и Коккинанки. Ели, пили, говорили тосты, тамадой был Калабашкин-старший, без фаланги большого пальца на правой руке; плевались рыбьими костяшками, пулялись вишневыми косточками; пели песни про то, что не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна.
А потом мне сделали подарки. Ничего не помню, кроме спичечных коробков (от больших, рыбачьих спичек), подаренных семейством Коккинаки. В коробках лежали старинные штуки.
Семен Константиныч был старый докер, руководил погрузкой и разгрузкой, но все отпуска проводил с археологической экспедицией, которая в семидесятые искала древний греческий корабль, затонувший в километре от лимана. Коккинаки льстило, что московские ищут греков, и сам он тоже грек; озверев от бесконечной майны-виры, он с детским счастьем надевал кислородный баллон и натягивал маску, чтобы поднимать со дна остатки древних амфор, мелкую монету, слоистое стекло из Византии. А вечером руководитель экспедиции собирал студентов-аспирантов на костровище и рассказывал про старую историю. К профессору жалась некрасивая девчушка, его полевая жена, влюбленная в познания и не теряющая веры, что когда-нибудь, пусть не сейчас, профессор все-таки решится и уйдет от этой.
Коккинаки малость приворовывал находки. Безо всякой задней мысли. Из любви к искусству. Их он мне и подарил. В одной коробке из-под шведских спичек лежала горстка бронзовых монет, одна вторая драхмы. Крохотные, меньше брызги от расплавленной свинчатки. Коккинаки как следует почистил денежки, зубным порошком, по-армейски; на выпуклых неровных монетах блестел кучерявый профиль. В другой коробочке хранился осколок амфоры. В третьей наконечник от стрелы, с двумя продольными отверстиями, как гоголевский «Нос» на авангардной иллюстрации – чтобы свистела в полете. А в четвертой было нечто вроде черной икры, уложенной горкой и ссохшейся: просо из той самой амфоры, пролежавшее на дне Черного моря две тысячи с лишним лет.
Я открывал коробочки, сердце колотилось: поскорей бы вернуться домой, и соорудить для этих штук музейную витрину.»
♣ От сортира до искусствоведа.
$ Когда б вы знали, из какого сора…
♠ По Лихачевскому цитуете, да исчо с ашипками. А Лихадемик вышел много после. Так что снова врете-с. Ладно, ловко врете, так что врите дальше.
«Я точно помню, как поверил в Бога. И когда. Поздним августом, накануне десятого класса.
У меня имелся личный мат, списанный из школьного спортзала. Кожаный, удобный. Мат валялся в саду, у забора, под шиферным длинным навесом. Через штакетник переваливались ветки каштана. По весне каштан отстреливал плоды, коричневые шарики бомбили шифер. Летом в запутанных ветках гужевались комары.
По вечерам я мазался вонючей мазью, чтобы насекомые не лезли, вытаскивал из-под навеса мат, ложился на спину, смотрел подолгу в небо. Оно у нас не то что здесь, на этом вашем Севере. Особенно к исходу лета. Огромное, покатое. В самом центре густое от звезд, как будто кто-то смел их в кучку. А на спуске, по краю окружности, безвидное и черное, пустое.
Лежишь, и смотришь, постепенно зависаешь. То ли ты в ночном саду, то ли где-то между небом и землей. Блеклая дымка вдоль Большой Медведицы… Пытаешься представить, что такое бесконечность, но это совершенно невозможно, где-то должен быть край, за которым еще один край, и за ним еще, еще… как зеркало в зеркало. И что это значит – было всегда? А если не было, то что же было? Звезды падают, царапают ночное небо.
Лучше будем думать о понятном».
(i) Предупреждение администратора: с 00 часов 01 минуты 15 марта запрещаются посты, содержащие более 1050 знаков. Ваш текст насчитывает 1059 знаков. Сократите его. Если Ваше высказывание не закончено, Вы можете продолжить в следующем посте.
«Дед каждый вечер, перед поздней зорькой, уходит на моторке в камыши, туда, к притокам, ставить закидушки. На судака, на щуку. Бабуля два года назад совершенно ослепла, глаза ее подернулись белесой пленкой. Она совсем раздалась, с трудом переставляет слоновьи ноги. Подолгу сидит на терраске, пьет из любимой бадейки холодный кофе, сплевывает на стол недопромолотые крупные ошметки.
Едва за дедом закрывается дверь, я на цыпочках иду ко входу, и как можно тише отпираю. В дом проныривает Мила. Мы шаг в шаг, чтобы скрипеть одновременно, крадемся в мою комнату, долго, голодно целуемся; я даю волю рукам; Мила сбрасывает, я продолжаю наступление; постепенно начинает темнеть, незагорелые части белеют в сумерках, дело движется к развязке. В решительный момент распахивается дверь. Бабуля стоит на пороге, всей своей непомерной тяжестью, как грандиозная языческая статуя, и смотрит прямо на нас.
Мы знаем, что она давно уже слепая, не различает даже темноту и свет, но взгляд ее прям и страшен.
– Кто здесь?
Мы молчим.
– Кто здесь?
Молчим, почти не дышим.»
(i) Предупреждение. До исчерпания лимита осталось 11 знаков.
«Она собирается шагнуть вперед, чтобы ощупать стены, кресло и кровать, но пошатывается, в страхе отступает, хватаясь за дверной косяк.
– Пашуууня! – зовет она в пустоту.
Я хватаю рубашку, придерживаю штаны, бесшумно сигаю в окно и галопом возвращаюсь через дверь. Бабушка стоит на месте. Мила замерла в углу кровати, как темная статуя с белыми выступами.
– Что, бабуля, ты звала?
– Почудилось, Пашуня. Старость не в радость. Помоги-ка мне добраться до супружеской постели.
Делаю Миле знак: давай, беги отсюда, и осторожно веду бабулю в спальню, где на кровати со стальными шишечками возвышаются горкой подушки, а на стене висит мой любимый коврик, сотканный из толстых ниток: зеленый болотистый пруд, белые лебеди, вдали красноватый замок, по краям пущена золотая бахрома.
Краем уха слышу: щелкает входной замок.
– Дед вернулся? Что-то рановато.
– Нет, бабуль, я просто дверь не прикрыл, сквознячок.
Прощай, моя милая Мила. Вряд ли ты придешь ко мне завтра. И послезавтра. И когда-нибудь. Была – и нету.
И мысли от потерянной Милы возвратились к смерти.»
Новое окно.
«Так значит, я умру. Я не был, вот я есть, и я не буду. Я! И поднимается во мне такой протест, что я готов порвать всю эту вашу вселенную. В клочья. Что это может значить – я умру? Меня вывинтят из мира, как перегоревшую лампочку, а все останется как есть? Металлические пряжки от ботинок с выношенным задником кто-нибудь отыщет через сотни лет, и будет, мерзавец, разглядывать, как я разглядываю древний наконечник от стрелы и черное ссохшееся просо из античной амфоры. Ботинки будут, а меня – не будет?