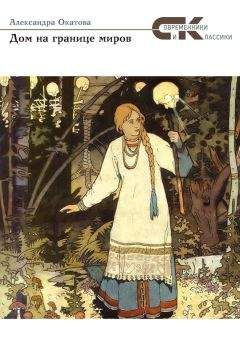Голова у неё закружилась, и она вновь оказалась за столиком кафе, она посмотрела вниз и увидела, что располневшие бедра резко натянули платье, а спазм, сжавший грудь, доставил болезненное удовольствие, и платье стало мокрым вокруг напрягшихся сосков. Чудеса, подумала она, отправив в рот огромный кусок необыкновенного десерта, темп видений всё возрастал, Катя падала на спину, быстрее, ещё быстрее, она разлетается на атомы и опять возрождается, кровь стучит в висках, и, как кессонная болезнь, в её крови вскипает любовь, прикосновения её мужчины кажутся ожогом, она опять тянется к нему в обречённой на провал попытке соединиться с ним, не надо, уходи, слышит она, у меня нет к тебе сейчас никаких чувств, темно в глазах.
И опять она у окна на стуле в кафе, кто это отражается в толстом стекле, это моя старшая сестра, мать? может, остановиться, не есть этот странный десерт, а то так с ума можно сойти, нет, остановиться никак невозможно! Ещё кусок, ещё, выпускной вечер младшего сына – о! оказывается, у меня уже два сына! Младший такой худенький, стройный и высокий, совсем как была она, пока не зашла в это странное кафе, идите, говорит она, я не пойду, её муж и младший сын на общей фотографии выпуска у ворот школы, в которой и она сама, и её старший сын учились, гуляют всю ночь, хорошо, что он с отцом, я так всегда боюсь за него. А старший сын заканчивает институт, в котором учились они с мужем, она счастлива, родители живы, всё хорошо, всё хорошо. Чья это крашеная прядь отражается в огромном окне кафе?
Ещё кусочек, пока не растаяло, родители умерли один за другим, отец перед смертью гонит её: прочь, девка-чернавка, но в последние дни вдруг узнаёт её, говорит, хочу домой, мы дома, говорит она, нет, мы на вокзале, говорит он, видишь, это зал ожидания и тени на потолке, вижу, говорит она, а что ты здесь делаешь? спрашивает он, я провожаю тебя, папа, говорит она. Потом старший сын женится, разводится, женится второй раз, рождается внучка, о, какая красивая, маленькая, как похожа на моего старшего, жена ему хорошая досталась, вторая, первая мне не нравилась, дайте мне, я отнесу маленькую с балкона в комнату, боже, как она похожа на старшего, одно лицо, не дают, выхватывают из-под носа, уезжает, всю дорогу ревёт, но никто не замечает, слава богу, можно спокойно плакать, приезжает опять к ним через неделю, звонит, стучит в дверь, но никто не открывает, она бежит в сквер, может быть, они гуляют, нет, опять бегом на пятый без лифта, стучит, нет, не открывают, она целует дверь и едет домой, потом сын говорит, что они так крепко спали, ничего не слышали, а она всю дорогу до дома, хорошо, что в их тьмутаракань сейчас уже провели метро, всю дорогу она плачет и плачет, да что же это такое, а маленькой уже три года, такая упрямая, не хочу видеть бабушку, говорит, ну что вы обижаетесь, она просто маленькая, говорит невестка, почему же ей так больно, у маленькой серо-голубые глаза и тёмные волосы, и своевольнее и капризнее ребёнка не найти.
Она опять падает, падает и вновь оказывается за столиком в кафе, ерунда какая-то: нет и долго ещё не будет метро в Митине! А платье чуть не лопается по шву, надо в будущем вовремя сесть на диету, она привычно лезет в сумку за очками и вспоминает, какие очки! у неё же стопроцентное зрение, но в глазах всё слегка размыто, от слёз, что ли, вот предпоследний кусочек, ам, и всё, рядом старик, белый как лунь, он ворчит и ругается, она тоже старуха и не отстаёт от него, тоже ругается, но вдруг начинает смеяться, не может быть – она смеётся! старик тоже начинает смеяться, они обнимаются и летят, летят в пропасть, и опять она в кафе.
В окне отражается старуха с седой косой вокруг головы, глаза выглядят маленькими, щёки обвисли, как у бульдога, шея морщинистая и кажется намного короче, чем была в юности, она же помнит свою шею, на тарелке тает последний кусочек десерта, она отодвигает тарелку и плачет, положив голову на несвежую скатерть.
– Ну что? Ты выиграл! – говорит чёрный белому, она всё-таки удержалась, не прикончила всё сразу, а я уже думал, что придётся избавляться от тела. Как в прошлый раз.
Белый удовлетворённо улыбается, всё-таки она проявила капельку благоразумия и не истратила всю жизнь сразу, немного оставила, да и сложилось всё не так уж плохо.
Приятели, обнявшись, уходят из кафе, забыв, что они спорили. Официантка сладко спит на диванчике у стенки, у неё вся жизнь впереди. Старуха, дремавшая за столиком, просыпается, с трудом разогнувшись, встаёт, разбитая, и растерянно выходит на улицу, ковыляя на высоких не по возрасту каблуках.
Светлое утро равнодушно принимает её в свои прохладные объятия.
28.05.2013
Он не помнил, как тут оказался.
Цепочка небольших прудов спускалась к Яузе. Первый, самый высокий пруд был замысловатой формы, с островками и соединяющимися друг с другом рукавами и поэтому походил на ленту Мёбиуса, было непонятно, на какой стороне ты находишься. Следующий, расположенный чуть ниже прудик уже был скромным со сглаженными углами прямоугольником с единственным островом, на котором в кустах бузины стоял деревянный домик для двух белых со змеиными шеями лебедей. На том же пруду паслись нахальные птицы, выпрашивающие у гуляющих хлеб, сейчас они сидели по берегам, спрятав голову под крыло, невзрачные, пестрые, коричневые с серым утки и нарядные селезни в ярких, с металлическим блеском галстуках.
Следующий пруд не имел даже острова, как и последний, нижний, четвёртый пруд, который был самым глубоким, городская легенда гласила, что лет десять назад из-за несчастной любви там утопилась девушка. По берегам росли старые кривые ивы, полоская в воде тонкие, длинные, с серебристыми рыбками листьев ветки.
Дождь то затихал на короткий промежуток, наполненный беззвучным ожиданием, и становилось особенно тихо, потому что звонко галдящие, как третьеклассники в метро, птицы обречённо молчали, то как будто вспоминал о своих обязанностях и принимался поливать с новой силой.
На скамейке у пруда сидел человек. Он словно не замечал, что ноги у него уже совсем промокли, а светлые коротко стриженные волосы пропитались водой и стали пепельно-серыми. Вода стекала за воротник, по плечам стучали увесистые холодные капли, рубашка потемнела и прилипла к телу. На бровях и на носу на секунду задерживались капли воды и после секундного замешательства срывались вниз. Он не чувствовал ни дождя, ни весеннего майского холодка, по щекам текли слёзы вперемешку с дождём.
Ну что же, всем кто-то когда-то отказывал. Холод отказа был сильнее весеннего дождя, а его безнадежность очевиднее равнодушно наступающей темноты. Ему некуда было идти, точнее – не было смысла куда-то идти. Он только что положил к её ногам все свои мечты, желания, всю свою любовь, всё, что было им самим, что делало его особенным. Она не приняла его великодушный подарок и равнодушно сказала, что не может ответить ему, сказала, что хочет покоя, этот безразличный отказ уничтожил его самого. Как будто у него вырвали сердце, вынули душу, лишили имени, спроси его кто-нибудь, как его зовут, он бы даже не понял вопроса, но спросить было некому, кругом только дождь.
Он понимал, что не может, даже если бы хотел, заставить её полюбить его, заставить думать о нём. Может быть, она полюбила бы его, если бы он умер, тогда она, заливаясь слезами, прочитала бы его письма и горько пожалела бы, что не может на них ответить за смертью адресата, она бережно собрала бы его стихи, зачитала бы до дыр, в общем, он размечтался как маленький: вот я умру, и она ещё пожалеет, но тут он понял, что она даже не заметит его ухода во цвете лет, а его стихи в лучшем случае будут пылиться в ящике стола, а в худшем бесславно отправятся на помойку. Он не мог просто сказать, мол, найду другую. Он столько сил вложил в свою любовь, что, отказавшись от неё, он бы обесценил своё чувство и всю свою жизнь. Это было бы предательством. Сохранить себя он мог, только простившись с жизнью.
Он малодушно представил себе, что он меняет имя, уезжает из этого города и живёт дальше другой, счастливой жизнью, но такой жизни он не хотел. Самое ценное, что у него было, заключалось в его острой всеобъемлющей нежности к ней, в его стихах, и он не мог предать себя и своё чувство и опять по второму кругу пришёл к выводу, что жить дальше он не может, нечем, незачем, всё напрасно, всё не нужно, он сам не нужен, он не хочет такой жизни, он перестанет разговаривать стихами, никогда больше он не напишет ни строчки. Ведь это с ней, только с ней он мог и хотел говорить, если не с ней, то ни с кем.
Голова горела, сердце билось, как боевой барабан, и кровь стучала даже в кончиках пальцев, боль была такая сильная и сладкая, что даже приносила облегчение. Осталось только прыгнуть в воду и расслабиться. Сладость определённости и удовлетворение от принятого решения на минуту успокоили его. Это всё. Конец. Всё правильно. Это самый глубокий из четырёх прудов. Он шёл по кромке пруда, этот берег он знал с детства, пологий южный и высокий северный, тёмная холодная вода, кусты орешника, сосны на северном берегу и дальневосточная черёмуха на южном. Не кусты, как наша обычная черёмуха, а дерево с блестящей, как загорелое девичье гладкое тело, корой, с нежными мелкими листочками и пахучими кистями белых цветов с безумным ароматом. Когда-то, совсем маленьким, под этой черёмухой он делал удочки из веток, а потом с важным видом сидел рядом с отцом на берегу, с гордостью поглядывая на других мальчишек, которые гуляли с мамами, – ничего интересного!