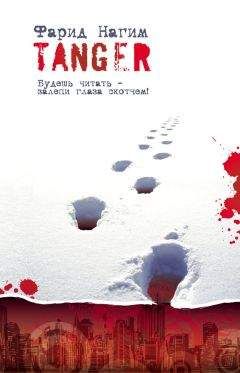– Ну вы и отморозки! – с доброй усмешкой отозвался начальник охраны. – А дальше-то чё?
– Дальше-то чё… Бабульку закрыл в кабинке, шваброй подпёр. Без штанов выбежал… В общем, деньги он всё-таки взял и вынес в спортивной сумке. Мы их даже разделить успели. И надо было нам всем валить в тот же день за границу.
– А смысл? Интерпол работает как надо.
– Дальше всё было как в сказке. Банк под ментовской крышей. Следователи собрали охранников. Всех подряд начали одинаково обрабатывать: «Мол, мы всё знаем! Кто был ещё в деле и где деньги?!» Естественно, те бедолаги, кто «ни при чём», молчали. А тот, кто был в теме, тот не вывез и поплыл. Забирали меня с юбилея жены. Всех гостей положили на пол.
– Ну, потешил ты меня, бродяга! – вздохнул начальник. – Давай иди с миром.
И тут Вадим «полетел»: встал, похлопал по плечу начальника и сказал: «Да, это тебе не мелочь по карманам тырить у пьяных покупателей».
– Я смотрю, орёл, ты доброту за слабость принял? Может, тебя заземлить?! – Начальник смотрел с брезгливостью и ярко выраженной неприязнью, как обычно начальники смотрят на жульё. – А теперь, животное, иди своих ищи!
И Вадим посмотрел на него с бессильным презрением. Опустил взгляд и вышел.
Кружилась голова, во рту пересохло. Прислонился к колонне и стоял, чувствуя чужеродность свою среди оживлённой праздничной толпы. А потом увидел Аллу с сыном. Они сидели за столиком, там, на площади, где располагались кафе и рестораны. Савва ел какую-то булку. Алла смотрела на него. Ждали. Вадим представлял свой убитый вид и не знал, какую маску надеть, каким сейчас должно быть его лицо. Он не мог подойти к своим. Пошёл за узбеком с каталкой, в которой были швабры и щётки. Пришёл в пустынный и чистый туалет. Ряды кабинок. Закрылся в крайней, прижался лбом к двери. У него только в детстве и ранней юности были такие жёсткие приступы безысходной тоски, когда воспринимаешь жизнь и всех людей как враждебную ловушку, в которой ты – несчастная, нелепая мошка.
И вдруг рядом, за тонкой перегородкой, заиграла приятная, давно забытая мелодия, звуки из другой жизни:
Белые розы, белые розы, беззащитны шипы.
Что с вами сделали снег и морозы,
Лед витрин голубых.
Пел мальчик с доверчивой, хриплой и немного хулиганской интонацией. О, как много разбудила в его душе эта песня!
– Вот же, нашли время звонить! – закряхтел и выругался мужик в соседней кабинке.
А мальчик пел и пел.
«Чтоб вы все были прокляты, суки!» Вадим зарыдал, слёзы полились из глаз без его ведома.
Музыка оборвалась.
– Что ты звонишь?! Где?! В Караганде! – выругался мужик. – Даже здесь посидеть спокойно не дают. Ты же слышишь, что трубку не берут, значит, не берут! Давай, до свидания…
Вадим содрогался, стискивал кулаки, но ему становилось легче.
И правда – пора возвращаться к своим.
Евгений Попов. Са-на-то-рия
Теперь моя пора:
я не люблю весны;
Скучна мне оттепель;
вонь, грязь – весной я болен…
Осень наступила,
Высохли цветы.
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты[1].
«Тайная торговля целебной грязью «Комед», пятьсот рублей баночка, процветала в санатории «Пнёво-на-Нерехте», – отметил в своей писательской записной книжке писатель Гдов. Он, кстати, как и его коллега Михаил Булгаков, любил употреблять это слово не в мужском, а в женском, более, по его мнению, созвучном гуманизму, варианте. Са-на-то-рия.
В санатории «Пнёво-на-Нерехте» между тем царило украшательство. На полянке, что перед столовой, всегда имелась небольшая такая сцена, а сейчас её уж украсили по случаю осеннего праздника красным кумачом, на котором было написано:
«ОТДЫХАЮЩИЕ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ».
И другой имелся лозунг, слева от сцены:
«ТРУДЯЩИМСЯ «ПНЁВО-НА-НЕРЕХТЕ» – СЛАВА!»
А лозунг справа гласил:
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 7 НОЯБРЯ ЛЮБОГО ГОДА».
Имелась на сцене и самодельная трибуна, тоже обтянутая кумачом.
И к берёзе был аккуратно прибит вырезанный из фанеры громадный «серп-молот» всё того же популярного здесь цвета.
Полянка постепенно наполнялась народом.
Интеллигентный дедушка в очках, с козлиной бородкой – вылитый всесоюзный староста Калинин (см. Википедию) – простёр руку, считай, прямо как Ленин, но в отличие от него прочитал следующие стихи:
Сам я был батрак в колхозе,
Долго пас овец,
Юность встретил на морозе,
Думал, мне конец.
Но Россия воссияла
Заново теперь.
Этим самым показала
Каждому пример.
Вряд ли этот поэт был когда-либо колхозником, не поверил Гдов. И отметил, что все эти старички и старушки, держащие в руках разно-цветные шарики и маленькие флажочки, скорей всего, моложе его самого, родившегося сразу же после Второй мировой войны с европейскими нацистами, фашистами и японскими империалистами.
Sic transit Gloria mundi![2]
Девушка из администрации, которых нынче зовут не затейниками, а почему-то аниматорами, тоже заступила за трибуну и тоже зачитала что-то позитивное.
Сегодня день народа,
Сегодня мы живём.
И дружными шагами
На шашлыки пойдём.
Глядя на неё, Гдов окончательно утвердился в мысли, что народное выражение «жопа шире колеса» вовсе не является метафорой, грубостью или гиперболой, а представляет собой ярчайший образец фантастического российского натурализма, который даст сто очков форы любым писательским бредням и любым выдумкам.
– Это я к тому, дорогие товарищи отдыхающие, что обед у нас сегодня будет особенный, праздничный – с шашлыками, красной икрой, желающие могут и по рюмочке выпить, – лукаво улыбаясь, объяснила фантастическая девушка смысл этих своих строк.
«Интересно, почему-то в этих плакатах и стихах ничего не говорится о коммунизме и нигде нет портретов Ленина в кепке, который утверждает, что мы идём правильной дорогой, – отметил Гдов. – Неужели прежняя идеология действительно канула, коммунизм действительно остался в прошлом, и мы сейчас присутствуем при становлении какого-то нового общественного строя, законам которого подчиняются даже старички, вдруг в одночасье ставшие безыдейными и лишь смутно воркующие нечто о прошлых прелестях молодой социалистической жизни, как голуби под крышей? Быстро время бежит, но куда?»
Пятьдесят лет назад, осенью 1964 года, он на пару с сокурсником по Московскому геолого-разведочному институту им. С. Орджоникидзе Лёшей Колотовым снимал койку в подмосковном Расторгуеве у одной старушки, которая жила в вынужденном одиночестве, потому что её дочку посадили за обвес и обсчёт покупателей продовольственных товаров. Зятя у старушки, естественно, не было – то ли тоже сидел, то ли и не существовал никогда. Зато у неё был внучек. Гдов не специалист, и он вряд ли мог бы точно назвать ту душевную болезнь, которой страдал сын незадачливой продавщицы. Мальчик добрый, ласковый, с вечной своей улыбкой до ушей, он беспокойства, собственно, вообще никому не приносил, если не считать того, что постоянно вертелся в их комнате, пускал слюни и сопли на их книжки и тетради, а если ему что-нибудь говорили, то он в ответ лишь внятно реагировал загадочным словосочетанием «Пау-па-у».
Именно тогда Гдов узнал про знаменитый для Москвы день 16 октября 1941 года, когда фашисты оказались уже на самых подступах к столице и в городе началась знаменитая паника, за описание которой в самиздате можно было спокойно схлопотать статью 190 – прим. УК РСФСР («Заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй»).
16 октября 1941 года. Когда… когда весь день не ходило метро единственный раз за его историю и десятки тысяч москвичей пытались вырваться из города, на Лубянке жгли архивы, шпана грабила магазины, разномастные начальники драпали впереди всех, тут же, как чёрт из коробки, возникла какая-то подпольная организация «Союз спасения Родины и революции», призывавшая сбросить «жидомасонскую клику Сталина»… когда в опустевшем без коммунистов ЦК ВКП (б) были взломаны замки, разбросаны бланки и другие секретные бумажки, когда писатель Фадеев докладывал Сталину, что поэт Лебедев-Кумач, автор песни «Идёт война народная, священная война», привёз на вокзал две машины вещей, не смог их за двое суток загрузить в вагон, отчего и сошёл с ума… когда директор одного из мединститутов смылся вместе с кассой, бросив сотрудников, студентов и госпиталь с ранеными бойцами… когда спирт спускали в канализацию, а мигом появившиеся разбойнички грабили путников, ну прямо как во времена Юрия Долгорукого…
Обо всём этом Гдов узнал не из самиздата и не тогда, когда на советскую землю пришла перестройка, а вот именно что осенью 1964 года, пятьдесят лет назад. Случилось это так: 16 октября 1964 год квартирная хозяйка вдруг взялась угощать бедных постояльцев чаем, «останкинскими» пельменями из пачки, водкой «сучок», а когда напилась, то вдруг зарыдала, достала из глубин комода фотопортрет ушастого низколобого паренька в рубашке с отложным воротничком. И сказала, что это – её сы́ночка, который был комсомольцем, любил Родину, товарища Сталина, добровольно пошёл в военкомат, но во время паники вернулся домой к безмужней матери (отец сидел да в заключении помер), к маленькой сестрёнке, и его вскорости расстреляли за дезертирство, как только всё улеглось и московские большевики вновь оказались на коне, с которого Гитлер их чуть было не спихнул.