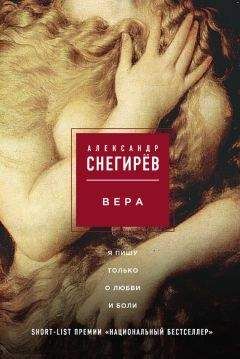Путь в комиссионку проторила сломанная лампа в виде неудобно изогнувшейся девушки, а вскоре исчезла и картина с коленопреклоненным монахом и таинственной особой в кроне.
Пропажу Эстер отметила скандалом. Сначала она подумала на соседку-доходягу, потом на сантехника, а потом все поняла.
Требовала вернуть, грозила участковым. Когда, немного остыв, спросила, на что дочери такие деньги, она была уверена, что за картину и лампу можно выручить тысячи, что, кстати, оказалось сущей правдой, ответ поразил простотой.
– На мужиков, – отрезала юная красавица. – На Ялту, на шампанское и на хороших мужиков.
Другая бы устраивала так, чтобы за нее платили, но этой была свойственна самостоятельность и даже некоторая склонность к меценатству.
Не испытывая угрызений, будущая мать Веры отправилась спускать вырученное, купив заодно для мамы валерьянки и «Наполеон».
С тех пор вдова в дела квартирной собственности не вмешивалась. Наследница же, несмотря на свою дерзость и прыть, обороты сбавила и больше отчий дом не расхищала.
Теперь Сулейман-Василий после долгих размышлений испросил разрешения у Эстер. Она в момент его вопроса беседовала с комодом, но зять был педант. Впрочем, она не протестовала.
Он обсудил с Верой, та кивнула, не отрываясь от телефонного разговора с подружкой.
И он отнес два сохранившихся холста антиквару.
Перекупщик долго всматривался в живописный мрак, за последние годы только сгустившийся. Сулейману показалось, что холсты приняли в себя грехи всех своих владельцев.
Пожевав бороду, антиквар выложил довольно приличную сумму, сам до конца не понимая, зачем ему это, без всяких сомнений, подлинное, но совершенно бессмысленное приобретение.
Вырученного должно было хватить на крышу, закладку проломов и застекление окон. Накупив материалов, Сулейман-Василий взялся за дело. Своим порывом он собирался заразить дремлющих до поры подвижников, в первую очередь Брыкина.
То было счастливое время, летом вся семья: мать, теща и дочь жили в его родной избе. Сулейман-Василий мечтал, что однажды наступит день, и он навсегда вернется в Ягодку. Очистит и нарядит церковь, подыщет ей батюшку, как жениха для дочери подыскивают, и тот станет приобщать доживающих старух и Брыкина, а через них наезжающих родственников. И так вся Россия, деревня за деревней, церковь за церковью.
Вера испытывала другое. Томимая подростковыми переживаниями, она бродила среди трав и стволов. Катерина, привыкшая к одиночеству и не особенно жаловавшая гостей, занималась огородом, а Эстер подолгу лежала на кровати, тяжело вздыхала и громко пукала. К тому времени она окончательно переселилась во внутренний мир, Веру и зятя принимала то за мужа и дочь, то еще за кого-то, им неизвестного, времена и люди смешались, и одно лишь не изменило ей – зрение.
Именно благодаря зрению она, не бравшая в жизни чужого, обкрадываемая собственной дочерью, а по ее следам, пусть в благих целях, еще и зятем, совершила воровство – похитила первый созревший помидор.
Урожай был хороший, ветки прогибались под весом плодов, но первый, набирающий цвет помидор волновал особенно.
Вера, Катерина и даже Сулейман-Василий каждое утро проведывали парник, где любовались наливающимися красными боками, и каково же было удивление этих терпеливых созерцателей, когда в одно прекрасное утро помидор исчез.
Чуть в стороне смотрела вдаль дожевывающая Эстер.
* * *
Зимой, вскоре после Сретения, Сулейман-Василий получил телеграмму, известившую о Катерининой кончине.
Никаких свойственных горожанам параличей, продолжительных, требующих госпитализации и сложных процедур недугов. Умерла по-деревенски: вымыла полы, сходила в баню, оделась в чистое, легла – и до свидания.
Два дня дым из трубы не валил, соседка заметила, удостоверилась и Сулеймана известила.
Непоэтичное дело зимние похороны. Никаких поросших васильками пригорков и пения птах. Топчешься на краю земляной дыры, смотришь на срез – плодородный слой, осколки, пучки корней, красная глина, утираешь помороженный нос и думаешь, как бы не поскользнуться на утоптанном снегу и вслед за покойником не сверзиться. Русская зимняя природа не оставляет места фантазиям. Вот она яма, и вот, собственно, все.
Не пожелавшая отставать Эстер вскоре последовала за родственницей. Склонный к обобщениям мыслитель сказал бы, что уходит поколение.
Летом Сулейман-Василий продолжил работы в церкви, в которых, поартачившись, постоянно сквернословя и поминая свой атеизм, согласился участвовать за плату и Брыкин. Вера была рядом.
По причине каникул в Ягодке собралась молодежь. Девки и парни слонялись по бывшей Кайзер штрассе, нынешней Ленина, от поля до церкви и обратно. Шаркали большими, не по размеру, сапогами, роняя семечковую шелуху и опустошенную винную тару, накинув на плечи телогрейки, которые в те годы не только в городах-миллионниках, но и в сельской местности сделались символом нонконформизма и раскрепощенности.
Несколько раз Вера встречалась глазами с видным пацаном Мишкой, когда тот подволакивал мимо нее свои кирзачи. Мишкино лицо не носило следов низких душевных свойств, как у многих, и одновременно черт вымороченных, свойственных городскому молодняку. Он был похож на пластмассовый манекен из витрины спортивного магазина. На него заглядывались, он гулял с Танькой, но в последнее время связь их шла на убыль.
В ту пору Вера увлеклась изобразительным искусством и, оказавшись в Ягодке, ходила по окрестностям с ящиком, набитым красками. Леса, поля и дали представали перед ней во всей красе, и она запечатлевала их со страстью. Местные кружили поблизости, но заглянуть бесцеремонно и начать обсуждать, похоже или не похоже, не решались.
Однажды, возвращаясь с пленэра, Вера столкнулась со стайкой пацанов. Она поглядела на них своими в оторочке рыжих ресниц глазами, и у встречных дыхание прервалось совершенно, и девахи их привычные разом забылись. И если бы Вера еще им внимание уделила, то девахи бы и вовсе выветрились, и навсегда остались бы без тычков, плевков и мимолетных, со стянутыми трениками, перепихонов.
– Нарисовала чего? – громковато спросил Мишка, когда она уже прошла мимо.
– Нарисовала.
Мишка, конечно, трусил, как все трусят, но не все свой страх выказывают, отчего может показаться, что есть в этом деле смельчаки.
Вера стащила с плеча лямку, откинула крышку этюдника и осторожно, пальцами за края, чтобы не размазать свежую лоснящуюся живопись, достала из зажимов картонку с небом, избами, галками телеграфных столбов и церковью.
– И охота мазюкать, – высказался который собирался в десант.
– Тебя не спросила, – ответила Вера.
– Бабкин дом! Могла бы и покрасивее, – заметил который откосил по почкам.
– Пальцем не тычь, не высохло.
Добавить было нечего, и Мишка решился – спросил, может ли она его, так, чтоб похоже. И схватил зачем-то за локоть.
Уже несколько дней, проходя мимо пацанов, по замирающему хрусту семечек, по сочным плевкам Вера понимала – со дня на день случится. Теперь он сжимал ее локоть, и она потеряла концентрацию, как боксер в нокдауне. Ей показалось, что она стала оплывать свечой и сейчас совсем стечет на землю к его стоптанным кирзачам.
Осадок заката стремительно растворялся в черно-голубом небе с розоватыми хлопьями кучевых и перистых. Она ответила: «Могу» – и не рухнула, когда Мишка разжал хватку.
Она собрала этюдник и пошла не на своих ногах к избе, где ее ждал отец, погруженный в радость своей миссии, не заметивший случившейся в дочери перемены.
С того дня Мишка сопровождал Веру и катал на мотоцикле, собранном им из разрозненных деталей. Поездки оглашались лаем кудлатого бобика, преследовавшего Мишкину тарахтелку.
Она рассказывала ему о художниках, подсунула книжку с репродукциями Лотрека, справедливо полагая, что наивернейший путь мужчины к живописи идет через уличных девиц.
От образования Мишка отказался, мол, он для этого слишком энергичный, на месте сидеть не может, лучше поотжимается, или на мотике погоняет, или вон ее, Верку, вдоль всей улицы на руках туда-обратно десять раз бегом.
Если они возвращались со стороны поля, то подолгу прощались, стоя по разные стороны задней, затянутой сеткой калитки, и железные соты тяжелели их чувствами.
Вера боялась отца, но тот был слишком увлечен церковным зданием. Он вообще Веру не донимал, только однажды, еще весной, наткнувшись в грязном белье на трусы с малюсеньким, но сразу бросившимся в глаза пятнышком, вдруг взбеленился. Как она смеет разбрасываться трусами, и почему он должен видеть эту мерзость. Из него хлестало, как из пробитой трубы, и он не замолк, пока последнее хриплое «да как ты смеешь» не вытекло изо рта.
Ее взросление он тогда посчитал предательством, понимал, что глупо, но ничего поделать с собой не мог. Вспоминал, как обнимала его, называла папочкой, уверяла, что они всегда будут вместе, что она от него никуда и никто им больше не нужен. Только она и папочка. Знал, что будет иначе, но не спорил и ничего ей не запрещал, мальчиков не отваживал, и только крохотное пятнышко, ему не предназначавшееся, ненароком подсмотренное, его взорвало.