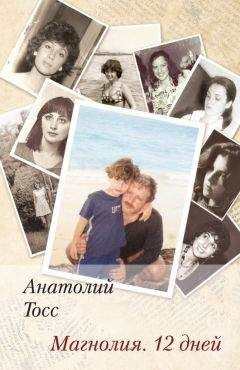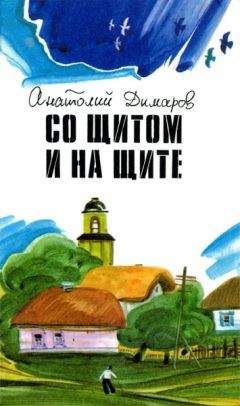Ознакомительная версия.
Я покачал в изумлении головой:
– Обалдеть можно. – Она снова посмотрела на меня, снова улыбнулась моему удивлению. – Все-таки вы, бабы, совершенно по-другому устроены, – заключил я простовато. – Все в вас другое, рефлексы, инстинкты. Вы ближе к природе, в вас больше животного. И знаешь что. мы по сравнению с вами – вырожденцы, полный одноклеточный примитив, нам за вами никогда не угнаться.
Она стояла в одних трусиках, с голыми ногами, смотрела на меня, улыбалась. Странно, но из взгляда исчезла мольба, зато в нем появился налет свежей, радостной жизни. Как будто провели быстротечную хирургическую операцию и глаза подменили на похожие, тоже озерные, но все же другие, дышащие, полные воздуха, излучающие свет и счастье.
– И еще вам очень идет трахаться, – не сдержался я.
– Вам? – Теперь в глазах зародилось еще и лукавство, все остальное – свет, блеск, счастье – осталось, только добавилось лукавство.
– Наверное, вам всем идет. Но тебе точно, – пояснил я.
– Тебя надо трахать каждые полчаса, а может, и чаще. Такое перманентное непрекращающееся состояние траха.
– Я не против, – пожала она плечами и, не выдержав, рассмеялась. Смех тоже оказался счастливым. – А ты думал, для чего я тебя выбрала.
– Ты – меня? – удивился я.
– Ну конечно. – Она подошла ко мне вплотную, я был уверен, чтобы поцеловать, но она лишь провела пальцем по щеке мягким, совершенно непроизвольным, нерассчитанным движением. – А ты, дурачок, как думал.
– Да мне все равно, – пожал я плечами. Мне на самом деле было все равно.
Потом она надевала колготки. Еще один священный ритуал, что-то типа заклинания, все те же движения ногами, попкой, бедрами, животом, все выверено, проверено временем, привычкой, инстинктом.
– Вы все же совершенно отличные от нас существа, – повторил я.
– Так это же хорошо. – Улыбка не сходила с ее губ, блеск в глазах не притуплялся, только нарастал. – Если бы мы были, как вы, вы бы нас не любили.
– А я и не жалуюсь. – Я чуть наклонил голову, как бы рассматривая ее под другим углом. – У нас все просто, штаны натянул, застегнул, все, готов, можешь идти. А у вас целая система, сложная атрибутика, и главное, к ней все подключено – тело, сознание, рефлексы, сама ваша природа. Похоже, что вы вообще не очень человеки. Гуманоиды? Да, возможно, спорить не буду. Но на человеков вы не походите. – Она засмеялась, смех переливался. – В смысле, если за мерило «человеков» принимать нас, мужиков, – добавил я.
Она уже надела юбку, оправила ее, так, в колготках без туфель, подошла к раковине, там над ней висело зеркало. Откуда-то в руках появилась косметичка, помада, кисточки, длинные, короткие, толстые, тонкие, какие-то другие приспособления – в общем, для меня это становилось слишком сложным.
– Не волнуйся. – Она смотрела в зеркало то на свое отражение, то на мое, затем снова на свое. – Швы я тебе наложу вполне по-мужски. Даже не сомневайся. – Вдавила одну губу в другую, поводила ими, потом, наоборот, выпятила вперед, похоже, осталась довольна.
– Я и не сомневаюсь, – согласился я.
Она не обманула, я даже не почувствовал боли. Мила трудилась надо мной, теперь ее лицо переполняли сосредоточенность и напряженная концентрация. Лишь пару раз она отвлекалась, бросала на меня быстрый взгляд, как бы проверяя, жив ли, не страдаю ли чрезмерно, и, убедившись, что не страдаю, бросив мимолетную, почти дежурную улыбку, тут же возвращалась к своей тщательной, филигранной работе.
Да и в травматологии меня обслужили по высшему разряду – быстро, профессионально осмотрели, подтвердили, что с глазом все в порядке, а вот переносица сломана. Дали заключение, у них, похоже, процесс был налажен и выверен до мелочей. Милочка, конечно же, всюду ходила со мной, проводила без очереди, стояла рядом, как бы на страже, подтверждая мой сильно блатной статус.
Часа через два мы снова оказались в ее кабинете. Уже начало смеркаться, минут двадцать-тридцать, и станет совсем беспросветно темно.
– Так я сегодня и не поработала, – заключила врач Гессина с заметным сожалением. Но я себя виноватым не почувствовал.
– Ты же оперировала утром.
– Я еще и наукой должна заниматься. У меня всего восемь часов в неделю на науку.
– Да ладно, зато новый опыт обрела. – Она взглянула на меня с удивлением. – Кабинет свой медицинский размочила, – произнес я чересчур жизнерадостно.
– А-а-а… – спохватилась она. – Тоже мне опыт.
– Будешь тут сидеть, работать и вспоминать, – понадеялся я.
– Правда, – она помедлила, – вспоминать буду. – Снова подошла вплотную и на этот раз поцеловала меня, вернее, лишь дотронулась губами до губ.
Вопрос, куда ехать, решился сам по себе. На Ленинском она покормила меня обедом, мы выпили немного, потом, обнявшись, лежали на диване перед включенным телевизором, трогали друг друга, радуясь прикосновениям, – счастливая молодая пара во время вечернего отдыха. Вскоре, правда, от телевизора отвлеклись, стали заниматься любовью, совсем не так, как в кабинете, совсем по-другому, медленно, томительно, теперь уже растягивая время до невообразимых, не существующих в обычной жизни форм. И уже ближе к ночи, лежа в кровати, перед сном снова занимались любовью.
– Видишь, я свою функцию выполняю, – сказал я, окунаясь в привычно растекшиеся влажной голубизной глаза. – Может, и не каждые полчаса, но сексуальную насыщенность в своей жизни ты отрицать не можешь.
– Не могу, – прошептала она и совсем негромко, музыкально застонала. Музыкально и еще как-то уплотненно, словно каждая нота была до предела сжата последующей, спрессована ими в многослойный перенапряженный звук.
Заснула она почти сразу, обняв меня, перекинув руку через грудь, прижавшись, ногой обвив мою ногу. Я лежал, смотрел в потолок, боясь пошевелиться, ее голова на моем плече застыла, я даже дыхания не слышал. Спать не хотелось совсем. Хотелось встать, ступить босыми ногами по холодящему паркету, подойти к окну, взглянуть на ночной, по-прежнему заснеженный, по-прежнему залитый огнями Ленинский.
Прошло, наверное, с полчаса, мое тело стало затекать, даже не от неподвижности, а скорее от зудящего желания подняться, выбраться из сдавливающей, погруженной в сон комнаты. Наконец я решился, отвел в сторону Милину руку, выкарабкался из-под ее ноги, головы, удобно примостившегося ко мне тела. Как было приятно распрямиться, почувствовать долгожданное движение, я выскользнул из спальни, тихо прикрыл за собой дверь, она даже не скрипнула. Разбросанная одежда валялась на полу рядом с диваном, я отделил мужскую от женской, надел трусы, рубашку; от стекла большого, в полстены, окна отделялся холодный пласт воздуха.
Ленинский и вправду был заснежен и плавал в плотно сгущенном электрическом свечении. Машин было достаточно много, впрочем, еще и поздно особенно не было, где-то полдвенадцатого-двенадцать.
Сначала я подумал, что каждая из этих проскальзывающих внизу машин несет в себе чью-то судьбу, чью-то жизнь, надежды, переживания, прошлое, будущее. Возможно, чью-то любовь, чью-то печаль, которые я не могу ни узнать, ни разделить, только вот так проводить глазами. Вот была судьба – а вот и нет больше. И неизвестно, была ли на самом деле, неизвестно, будет ли.
«А моя судьба, моя жизнь? – подумал я потом. – Кто знает о ней, кому она важна? Да ладно, важна, кому вообще до нее дело? А если никому дела нет, то существует ли она вообще?» Как там в старой притче: «Упало ли дерево, если никто не слышал в лесу звука его падения?»
Ведь сколько произошло за эти последние дни, они просто сжались, спрессовались от насыщенности, как бальзаковская «шагреневая кожа», будто я целую отдельную жизнь прожил за две недели. Таня, Мила, сломанное ребро, Аксенов, снова Таня, Петр Данилович, разыгранное по нотам, словно инсценированное избиение, теперь вот еще сломанный нос, да и остальная разбитая морда. Хорошо, что ребро действительно не сместилось, я и не подумал, что оно может легкое проткнуть. Вот взял бы и помер на ровном месте от собственной дури и безрассудства. Обалдеть, конечно, вот стою, завороженно уставившись на Ленинский, растекаюсь мыслью по его накатанному, пропитанному желтизной, словно прокуренному полотну, а получается, что мог бы в морге сейчас отдыхать. Вот пойди загадай. Как там в сказке: «Налево пойдешь… Направо пойдешь… Ну, и прямо.» Только зависит ли окончательный выбор дороги от нас?
«Но я ж остался, – проскочили тут же поднявшие волнение слова. – Я-то ведь живой. Все, видно, так должно было случиться. А жизнь через меня не просочится.»
Слова толпились, спешили, догоняли одно другое, я даже не искал их, они сами поднимались откуда-то из глубины, будто давно уже там находились, отлеживались тихонько, набирались воздушной легкости, чтобы сейчас, именно в данное мгновение, оторваться от рыхлого дна и всплыть, и войти в этот ночной, раскинувшийся вокруг меня мир. Мне даже не требовалось их записывать, они мгновенно вживались в меня, как давно вшитая, но только сейчас сросшаяся ткань.
Ознакомительная версия.