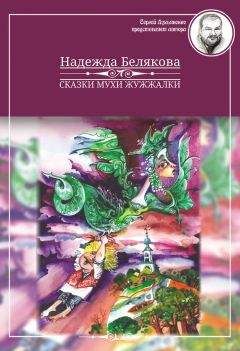«Культ Деметры» – так шутя называл традиционную осеннюю «картошку» Иринкин студентик из московского Архитектурного института. Потому что ничем другим эту странную социальную «госпрограмму» объяснить было невозможно. Ведь затраты на перемещение в колхозы толп горожан, обустройство их проживания с ночевками на несколько дней и кормлением огромного количества этих городских людей – всё это явно не окупалось добытой ими «картошкой». Тем более что в деревнях и селах круглый год жили сельскохозяйственные рабочие-колхозники, которым тоже платили зарплату, в то время когда горожане работали за них в полях. И студентик с юмором рассказывал Иринке о древнем культе языческой богини Деметры. Смешно отплясывая, он строил при этом уморительные рожи. А как еще рассказывать про то, что священной обязанностью молодых и красивых издревле было для повышения урожайности и плодородия полей при всем честном народе, под радостные песни и пляски соплеменников, заниматься любовью в полях, стремясь передать земле всю свою силу молодой страсти и любви, ведущей к плодородию земли. Такой любви, как у Иринки с тем студентом, присланным 20 лет тому назад «на картошку»! И ведь правда! Такого урожая, как после той Иринкиной «картошки», в Ругачёво никогда не было ни прежде, ни потом – годы спустя.
А то, что сынок ни на нее, ни на мужа не похож;, – соседи или тактично не замечали, или дела никому до этого не было. Муж;, уехав на заработки в Польшу, когда Игорьку было три годика, сгинул – не вернулся. Иринка, как и положено, относила чёрные кофточку и мини-юбку целый год. Но сильно не убивалась, потому что сердцем чуяла, что не сгинул ее смешливый Вовчик в Польше. А просто затерялся среди потоков «челночников» с началом Перестройки, когда вмиг остались без работы советские инженеры, врачи и учителя, как и ее Вовчик – учитель физкультуры. Сны с Вовчиком иногда снились ей – спокойные и добрые. Иринка им радовалась, словно весточку с прощением за свою измену получала от Вовчика. Потому и свечки в церкви Вовчику «за упокой» не ставила. Верила, что беглый муж; просто нашел свое счастье где-то на стороне, в Европе. Потому что приходили без обратного адреса посылки: то из Полыни, то из Германии – с одеждой для Игорька, с учетом меняющегося возраста ребенка. Но анонимно, без единого словечка, и всегда как раз ко дню рождения Игорька. Так и осталась с сыном Иришка без мужа. И потому, когда начались у сыночка подростковые выверты, нелегко ей пришлось сладить с его норовом. А вырос, так и вовсе – хоть вой! У всех ребята нормальные: кто в тракторное училище пошел учиться, кто деньги шабашкой у дачников зарабатывал, чтобы потом купить подержанную машину и таксовать. А Иришке досталось хлебнуть выше крыши, как говорится. Выросший сынок вдруг увлекся нахлынувшей и распростертой чёрным флагом над нашими буднями новомодной готикой. И стал ее сынок Игорёк для друзей сначала Гарик, а потом и вовсе – Герка. Она удивилась, услышав, что друзья его зовут Герка, и высказала сыночку:
– Я же тебя Герасимом не крестила! И по паспорту ты – Игорь! Что же они тебя Герка зовут?
На что Игорь ответил матери несколько заносчиво и категорично:
– Герасим тут ни при чем! Ты мне еще Муму вспомни! Я в нашей тусовке – Герман! Я – гот! И простецкое русское имя Игорь мне не идёт! А Герман – звучит по-немецки! И означает – повелитель! А по-испански – брат!
Характер у сына, ставшего готом, становился все неуживчивей, поэтому Иринка, решив не напрягать обстановку в доме, промолчала, так и не осмелившись отшутиться, что у Пушкина Герман – вовсе не повелитель, а рехнувшийся игрок.
Черные майки с черепами и готическими надписями и даже купленные по случаю черные ковбойские сапоги Гера носил теперь даже в жару. В сочетании с длинными белокурыми жестко-прямыми волосами ниже плеч и голубыми глазами его вечно мрачное и недовольное выражение лица с первого взгляда давало понять, что новоявленный Герман – настоящий гот. Сначала он отшучивался, что «черная рубашка грязной не бывает!». Но со временем чернота стала единственным цветом его одежды настоящего гота. И не важно – гот из Парижа, Чикаго, Берлина или Зажопинска, главное, что настоящий гот – верноподданный таинственной страны, в которой каждый и есть центр ее мрачной и горько-смертной красоты. В неизменную атрибутику готов на правах второй кожи, наряду с чёрным цветом одежды – словно вечным трауром по утраченным с юности мозгам – входили и татуировки. И уж сколько Иришка со слезами на глазах умоляла сына не уродовать себя наносимыми на кожу разными рисунками с причудливо выполненными готическим шрифтом заумными девизами, но истинный гот Герман был неумолим. И вскоре, несмотря на просьбы матери, спина его и руки были украшены татуировками, а его торс стал походить на доску объявлений из разномастных текстов и шрифтов.
– Тату! – гордо произносил Герман, опережая осуждающий взгляд матери, когда ходил по дому без черной майки, словно произносил заклинание, способное загасить любое посягательство на свободу истинного гота.
Его поездки в Москву на тусовки готов, с засиживаниями до утра в разных барах и кофейнях увенчались тем, что он нашел там свою половинку. То, что она своя в доску, он понял с первого взгляда – об этом говорил обильный пирсинг на ее лице: скобками белого металла были обхвачены надбровные дуги и правая ноздря ее тонкого носика, а на нижней губе многозначительно белел серебристый шарик. Увидев одетую во все черное девушку, протягивающую для знакомства с нею разрисованную кельтским орнаментом руку, Иринка охнула и безошибочно выдохнула:
– Тату!
– Тату? Нет! Я – Таня! – сказала принтедшая знакомиться с Ириной девушка Германа.
С этого дня она поселилась у них в доме. Ничего черно-готического в ее поведении не проявлялось. Даже как-то по-человечески началось всё у них. И готовила, и даже посуду за собой мыла. Вышвырнув всю рухлядь времен еще Иринкиных родителей, в кредит взяли новую мебель, конечно, черного цвета – модного венге.
Таня была родом из Туапсе, а в Москве оказалась случайно, приехала на заработки. Кто-то из друзей пригласил ее, любительницу-альпинистку, поработать в области промышленного альпинизма – мыть стекла на зданиях из стекла и бетона в новой, сверкающей части Москва-Сити. Но вскоре фирма накрылась, и пришлось искать другую работу. Тут и всплыли её навыки выживания в курортных городках. И она стала расписывать Герману-Игорю выгоды работы, если открыть свой салон тату, потому что татуировки вошли в моду и стоят дорого. Место для открытия салона тату она нашла сама. Подрабатывая уборщицей в офисе, договорилась с арендаторами – художниками-дизайнерами, у которых были трудности с деньгами, что будет работать у них бесплатно, а за это по вечерам, после их рабочего дня, Герман сможет принимать посетителей, желающих украсить свое тело татуировкой. Такой вечерний салон тату. Но для этого им нужно было подучиться, купить необходимую аппаратуру, инструменты. И – ура, вперед! Салон тату сулил огромные деньги. Ведь тату – хит сезона, и все продвинутые хотят тату! Это же не «синева» с числом ходок, как раньше! Нынче тату – украшение и знак продвинутых! Теперь это актуальное искусство!
Эта идея сразу же ужаснула Ирину. Она испугалась, что втянется ее доверчивый Игорек в какие-то темные дела, спутается с темными людьми, попадет в беду. Ведь и сама наколка, то есть тату, – дело опасное! Можно и заражение крови, не дай бог, человеку ненароком сделать! Как-никак, и лицензия нужна. Да и в целом Ирина, как человек старшего поколения, никак не могла преодолеть брезгливо-недоверчивого отношения в этой «синеве», связанной в сознании людей ее поколения с криминальным флёром, откровенно тюремной уголовно-шпанской среды обитания. И то, что теперь гордо именуется «тату», или татуировка – это все та же бывшая обычная наколка на синеющих старых, обрюзгших телах: «Не забуду мать родную», «Век воли не видать», словом, – «На груди профиль Сталина, а на сердце Машка анфас».
Это все коробило Ирину. И она тщательно перебирала в памяти каждую деталь того сентября, как перебирают вещи в старом шкафу, чтобы найти притаившуюся истребительницу-моль. Вспоминала она, перебирая в памяти, и светлые парусиновые брюки из магазина «Рабочая одежда» того московского студента, ведь целыми днями будущие архитекторы «морЬкву» перебирали под открытым небом. И его голубые застиранные майки, и клетчатые рубашки, и первые кроссовки тех лет на босу ногу, потому что стирать было некогда, а чистых носков, захваченных из Москвы, уже не осталось за время их студенческой «картошки». Ну нет же! Не было в его облике и в поведении ее студентика того пугающего начала, из которого нахлынула вся эта готическая дурь. Вспоминала стихи, которые он читал, – и они были светлые, добрые, не предвещали ничего мрачно-готического. Тем он и очаровал ее: светом, нежностью непривычно изящной ласки. Вроде бы на одном языке говорили, а те же слова он произносил, словно в чемодан аккуратно, ясно и стройно укладывал красивые вещи, как для поездки в хорошую и солнечную страну. От интонации его веяло безмятежностью, словно, о чем бы он ни говорил, подразумевал, что всё будет хорошо. И от этого становилось и вправду хорошо. Так хорошо, что столько лет спустя помнится!