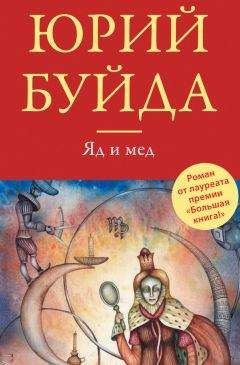Ознакомительная версия.
– Значит, Панферов и Налбандян? – ядовитым голосом вопросил Лерик.
– Значит, Рафаэль и Пушкин, – с холодной улыбкой возразил Борис. – И Эндрю Ньюэлл Уайет, пророк их на земле.
– Твоя любовь к власти была бы аморальной, если бы не была такой естественной, – съязвил Лерик.
Борис только улыбнулся в ответ.
Сколько нам тогда было? Восемнадцать, девятнадцать, может быть, двадцать…
Дело было в гостиной, Борис сидел за роялем и аккомпанировал своим словам, перебирая клавиши, Лерик слушал его, развалившись на диване и презрительно улыбаясь портрету князя Осорьина, который стоял на поле Аустерлица со шпагой в правой руке. Дядя Саша потягивал виски, попыхивая сигарой и с улыбкой прислушиваясь к сумбурным речам Бориса; Тати поглядывала на племянников поверх книги – она в десятый, наверное, раз перечитывала «Le côté de Guermantes»; Николаша шептал что-то на ухо раскрасневшейся Нинон; в кресле у камина постукивала коклюшками Даша…
Я сидел в углу и читал запретного Адамовича:
Когда мы в Россию вернемся… о, Гамлет восточный, когда? —
Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем…
За окнами бесновалась метель…
Борис побрился, надел домашнюю куртку с атласными лацканами и коротковатыми рукавами, из которых выглядывали манжеты белой рубашки с крупными запонками. От коньяка и кофе он отказался: «Весь день только и делал, что пил».
Сначала пил во время делового обеда, потом на приеме в польском посольстве, а вечером за ужином с Катиш – она была известной актрисой и официальной любовницей Бориса – выпил полбутылки кьянти. Вернулся в начале десятого, перекусил в кухне бутербродами, выпил рюмку водки, поболтал с Нинон. Домоправительница жаловалась на Илью, который морочит голову бедняжке Ксении, а та, дурочка, и рада: верит каждому его слову, хоть и знает, что он пришел к ней из чужой постели…
Тати молчала.
Борис закурил – я залюбовался его красивыми руками и артистичными движениями: открыл портсигар, взял сигарету, щелкнул зажигалкой, выпустил дым, убрал портсигар в карман, закинул ногу на ногу.
– Ее убил кто-то из своих, – сказал он. – Она хотела всем понравиться, пыталась соблазнить всех – меня, Илью, Лерика, доктора, Лизу, Алину, Ксению, Митю… Кажется, и тебя тоже?
Вопрос его был адресован Тати.
Тати не ответила.
– Она мыла ноги Сироте, – продолжал Борис. – Как-то среди ночи я спустился в кухню, они были там. Сирота сидел на стуле, поставив ноги в таз с горячей водой, а Ольга массировала его лодыжки. Она сидела перед ним на корточках, полуголая, и массировала его лодыжки…
У меня мурашки пробежали по спине, когда я представил себе эту сцену.
– Похоже, ей не удалось соблазнить только Нинон…
– Из-за чего ты поссорился с Ильей? – спросила Тати.
– Не из-за Ольги, – сказал Борис. – Из-за Ксении.
– Из-за Ксении, – задумчиво повторила Тати.
– Кажется, Илья заигрался, дошел до той точки, когда надо сказать девочке, что между ними ничего не было, нет и не может быть. Ксении семнадцать – она это переживет. – Борис поморщился. – Все-таки они брат и сестра… хоть и двоюродные…
Тати кивнула.
– Значит, не из-за Ольги…
– Вчера вечером я с ней разговаривал, – сказал Борис. – Сказал, что она загостилась тут. Пора и честь знать. Я сказал, что мы не против посторонних людей, мы даже не против чужих – мы против людей случайных. Предложил помощь… речь шла о деньгах, конечно… Она все поняла и согласилась. Во всяком случае мне так показалось. Она сказала, что хотела бы остаться до воскресенья. Три дня. Я не стал возражать.
– Почему она поругалась с Алиной?
Борис пожал плечами.
– Я видел их целующимися, а чтобы ругались… впервые слышу…
– Она швырнула в Ольгу синюю вазу… откуда только сила взялась… я помню, как пыхтели рабочие, когда переносили ее в гостиную… втроем тащили… – Тати помолчала. – Она спит?
Борис кивнул.
– Когда-нибудь все равно придется…
– Не сейчас, – сказал Борис.
Тати вздохнула: племянник уже который год откладывал развод с женой, проявляя совершенно не свойственную ему и необъяснимую нерешительность.
Она сменила тему и заговорила о доме. Борис был против частичных ремонтов – он считал, что дом надо реставрировать и реконструировать: «Хватит затыкать дырки и латать прорехи. Нужен капитальный ремонт, а не починка подтекающих кранов». Он даже заказал проект реставрации главного здания и флигеля – речь шла о миллионах долларов – и готов был оплатить работу из своего кармана. Но для этого всей семье пришлось бы на несколько месяцев переехать в московские квартиры – сама эта мысль казалась Тати чуть ли не кощунственной. Ну и, разумеется, пришлось бы вывезти мебель, картины, бумаги, посуду, все те мелочи, которые кажутся нужными здесь, в этом доме, и тотчас утратят всякий смысл, превратятся в мусор, как только их вынесут за порог. Как-то Тати сказала, что ей дороги все эти глупые безделушки, все эти тени, звуки, запахи, призраки – дух дома, которого не вернуть, когда рабочие починят лестницу, ведущую наверх, и заменят седьмую ступеньку, больше ста лет отзывающуюся невыносимым скрипом, но без этого невыносимого скрипа невозможно представить себе дом, и как жить без этого невыносимого скрипа – Тати не представляла себе…
Борис встал, сунул руку в карман куртки.
– Это было у нее в руке. – Он протянул что-то Тати. – В левой руке.
Это был перстень, снятый с руки князя Осорьина, казненного Иваном Грозным. Этот перстень привез из Константинополя один из полулегендарных предков Осорьиных, который состоял в свите княгини Ольги и был крещен вместе с нею. По преданию, перстень был подарен Осорьину императором Константином Багрянородным. Ценностью он обладал скорее исторической, чем эстетической, но для Тати это грубоватое золотое изделие было частью того «невыносимого скрипа», без которого жизнь утрачивает смысл, поэтому я и не удивился, когда она подняла голову и, глядя на меня в упор, проговорила сквозь зубы:
– А вот за это и я могла бы убить…
Резко встала и вышла в спальню.
Однажды Тати сказала, что она знает обо всем, что происходит в доме, а Нинон – обо всем, что происходит в доме на самом деле. Нинон никогда не подслушивала и не подглядывала: простыни, полотенца, носовые платки, халаты, манжеты и воротники рубашек, бокалы с остатками вина или окурки в пепельнице часто бывают болтливее и красноречивее людей. Если Тати была осью осорьинского мира, то Нинон – главным колесом, приводившим в движение осорьинский механизм, воплощением порядка, его знаменем и оградой. Статная, спокойная и твердая, она никогда не повышала голос, но всегда добивалась своего, умудряясь при этом держаться в тени. В юности она влюбилась без памяти в Николашу, а счастье нашла в любви к Борису, хотя и знала о его любовницах, официальных и неофициальных. Она презирала Алину, но и жалела несчастную алкоголичку, и случалось, что ночами просиживала у ее постели, когда Алина приходила в себя после очередной попытки самоубийства: несколько раз жена Бориса пыталась покончить с собой, перерезая вены на руке, но ее успевали спасти. Нинон была наследственным членом семьи, хранительницей ее тайн, «идеальной рабыней», как однажды с презрением выразился Митя, а Тати как-то назвала ее «сестрой». Для яда и меда осорьинской жизни она была таким же сосудом, что и сами Осорьины. Лишь однажды преданность Нинон была поколеблена, и Осорьины тогда чуть не лишились домоправительницы. Это случилось года через три-четыре после того, как Нинон родила Ксению, а Борис запутался в любовницах. В больнице, куда она попала с аппендицитом, Нинон познакомилась с доктором Паутовым, могучим красавцем и вдовцом. Он стал бывать в Доме двенадцати всадников и вскоре сделал Нинон предложение. И она ответила согласием, решив, как сказала потом язвительная Тати, свить свое гнездо, а не ухаживать всю жизнь за чужим. Но тут доктора Паутова отправили в Чечню, где он на третий день и погиб, и Нинон вернулась к своим обязанностям в осорьинском доме. Борис порвал со всеми любовницами, и на несколько лет Нинон стала его единственной женщиной.
Тати вернулась в кабинет посвежевшая, умиротворенная, опустилась в кресло.
– Значит, она успела и вас соблазнить, доктор…
– Не успела, – сказал я. – Времени не хватило.
Она вставила сигарету в мундштук, прикурила и проговорила:
– Не был он у Катиш: она вот уже недели две гостит у Лаврушки. Я вчера с ней разговаривала.
Речь шла, конечно, о Борисе.
Лаврушкой друзья звали прабабушку Катиш – Лауру Сергеевну Кутепову, в девичестве ди Стефано Нели, вдову известного советского физика-ядерщика, с которым дружил отец Тати – Дмитрий Николаевич. В последние годы Лаврушка жила неподалеку от Флоренции, в деревушке, где были похоронены семнадцать поколений ее предков, и иногда звонила Тати.
Ознакомительная версия.