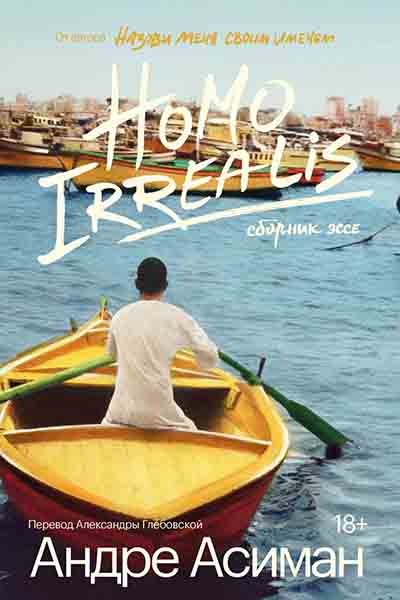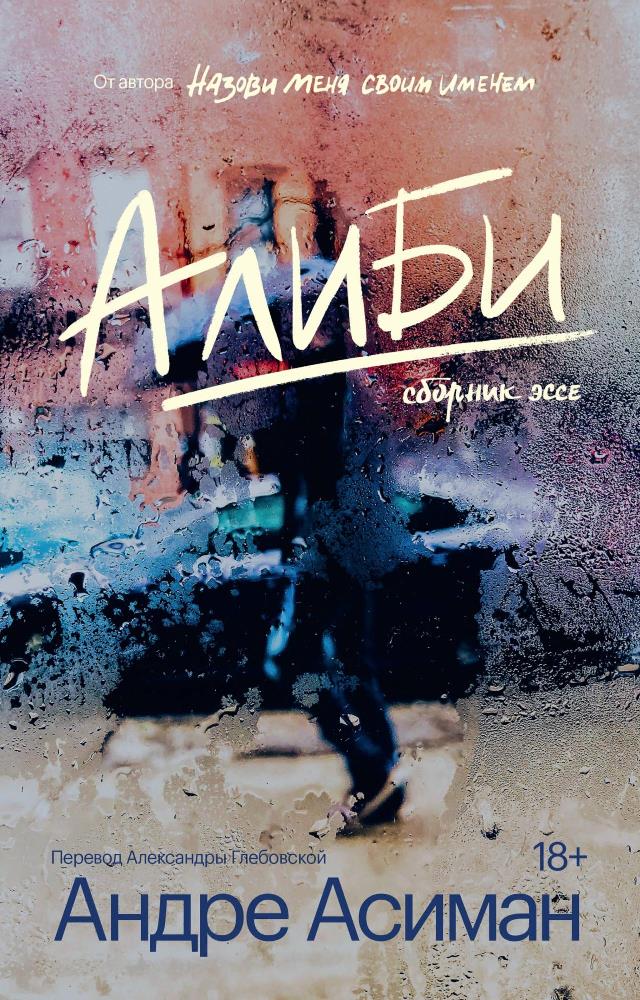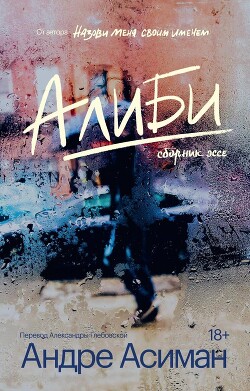не расскажет нам свою собственную историю — оно лишено сюжета и нарратива и состоит из неуловимого гула желаний, фантазий, памяти и времени. Ирреальное наклонение не зафиксировать на письме и уж тем более в мыслях.
Тем не менее в нем мы и живем.
Проблема фрейдовской археологической аналогии заключается не в том, что автор не до конца в нее верит по причине ее причудливости: просто сама аналогия несостоятельна. Вещи движутся и во времени, и в пространстве; чтобы аналогия сработала, они должны двигаться в обеих этих плоскостях одновременно — а именно это Фрейд, который совершенно не чужд мышлению вразрез с фактами, и отвергает как фантазию. Фрейд просто не в состоянии зримо представить себе, как извечное место и вековечное время совпадают в каждой точке. Подобное мышление идет вразрез не только с фактами, но и с интуицией.
Одна из причин замешательства Фрейда перед лицом подобной конструкции может состоять в том, что он использует пространственную метафору времени, а это все равно что описывать апельсины через метафору с яблоками. Часть проблемы может состоять еще и в том, что Фрейд не способен думать о времени, не упоминая пространства, при этом попытка думать о пространстве в том же контексте автоматически отключает у него мышление о времени.
Подозреваю, однако, что проблема лежит в иной плоскости. Да, Фрейд использует археологическую метафору, однако в видении его представлены не столько раскопки, которые предполагают вертикальное движение от слоя к слою — исторически, хронологически, диахронически, — сколько нечто совсем иное.
* * *
Ирреальное наклонение изъясняется не на языке психоаналитиков-археологов, а на языке лозоходцев, которые используют явление, называемое остаточным магнетизмом. Имеется в виду, что предмет остается слегка намагниченным еще долгое время после того, как воздействие на него магнетизма прекратилось. Остаточный магнетизм — это воспоминание о том, что исчезло и само по себе не оставило следа, но при этом, подобно ампутированной конечности, продолжает заявлять о своем присутствии. Вода уже высохла, однако лоза реагирует на память земли об этой воде.
Остаточный магнетизм, в отличие от раскопок, где движение происходит вертикально, от слоя к слою, то есть последовательно, — это притяжение некой силы, которая не только остается скрытой или, так сказать, ушла в землю и продолжает погружаться в нее все глубже, а то и вовсе исчезла, прекратила свое существование или даже не существовала никогда, но — добавим еще один виток — ее воздействие, присутствие вполне может быть притяжением со стороны чего-то, что и вовсе еще не зародилось, а только пробивается на поверхность, к будущему. Два жеста — появление и исчезновение — совпадают во времени, ибо остаточный магнетизм и присутствие в конечном счете говорят нам не о времени — прошлом, настоящем или будущем, — а о сплетении всех трех. Речь идет о воде, которая либо существует, либо не существует под землей, она могла высохнуть или прямо сейчас накапливается — или происходит и то и другое одновременно.
Лозоходцев не обязательно интересует присутствие или, если уж на то пошло, отсутствие чего-то, для них важнее эхо, тень, след или, если подойти с противоположной стороны, зачаток, зарождение, временное бездействие, состояние личинки. Тень ушедшего и зародыш еще не рожденного оказываются рядом друг с другом. Говоря языком литографий, Рим одновременно и город, и снятый с него отпечаток. Это и образ, и пятна на литографическом клише через долгое время после того, как отпечатки вставили в рамы и продали: так рыбья чешуя порою блестит на разделочной доске сильно после того, как рыбу выпотрошили, приготовили и съели. Суть Рима не столько во времени, сколько в непрерывных модуляциях времени, в его непрекращающемся рефлюксе.
Находясь в Риме, отчасти что-то себе представляешь, отчасти вспоминаешь. Рим не может умереть, потому что его никогда полностью не существовало в реальности. Это тень чего-то, что почти возникло, но прекратило существовать, но не перестает пульсировать и жаждет продолжить свое бытие, хотя время его то ли еще не настало, то ли уже прошло, то ли одновременно настает и проходит. Рим — чистая фантазия. Его вроде бы нет, он не вполне реален, но и не нереален: он ирреален.
* * *
То, что пережил Фрейд, оставшись лицом к лицу с Римом, повторилось в 1904 году, когда ему наконец удалось увидеть афинский Акрополь. Он испытал не разочарование и даже не сногсшибательное ощущение, называемое «синдромом Стендаля», когда человек лишается чувств перед великим произведением искусства. Вместо этого он ощутил некую пресыщенность, доходящую до онемения, распада, чувства отстранения. Джеймс Стрейчи переводит немецкое слово Entfremdungsgefühl как derealization, де-реализация, ощущение, говоря словами самого Фрейда, «то, что я здесь вижу, не есть реальность». То, что должно было стать источником счастья и удовлетворения, вылилось едва ли не в апатию, неверие, а в итоге — в душевный разлад. Акрополь отказался с ним разговаривать. И ничто не могло столь же громко, сколь эта неспособность осознать реальность, заявить о провале попытки получения опыта.
«Так вся эта реальность все-таки существует, как нас и учили в школе!» — думает озадаченный Фрейд, оказавшись впервые в жизни на Акрополе. Он знает: у него никогда не было оснований сомневаться в существовании Парфенона, и тем не менее он не способен постичь реальность собственного опыта — и доказать тем самым, что опыт имел место. Складывается впечатление, что тот самый разум, который не позволял себе «предаваться выдумыванию фантазий», сейчас делает в точности противоположное — он не способен предаваться ощущению реальности.
Посетить то или иное место еще не значит обрести его в опыте. Подлинный опыт — это резонанс, представление «до», представление «после», истолкование опыта, его искажение, борьба с постижением опыта опытным путем. То, что мы думаем о нашем опыте, даже когда не знаем в точности, как его осмыслить, — само по себе опыт. Опыт — это сияние, которое мы проецируем на предметы, а они сияют в ответ. Мы привозим наши фантомы в Рим, отыскиваем их там, считываем, рассчитываем с ними столкнуться — и в процессе Рим превращается в воплощение этих фантазмов, даже тех, с которыми мы так и не столкнулись.
Лучше всего запоминается то, что могло случиться, но не случилось.
* * *
Чем был Рим для Фрейда? Двойником чего-то другого? Набором неразобранных воспоминаний, желаний, страхов, фантазий, травм, блоков, подавлений, копившихся с детского до взрослого возраста, причем не просто наслоившихся друг на друга, но существовавших — вспомним очень уместное слово самого Фрейда — рядом друг с другом? Наверное, правильнее задаться вопросом о