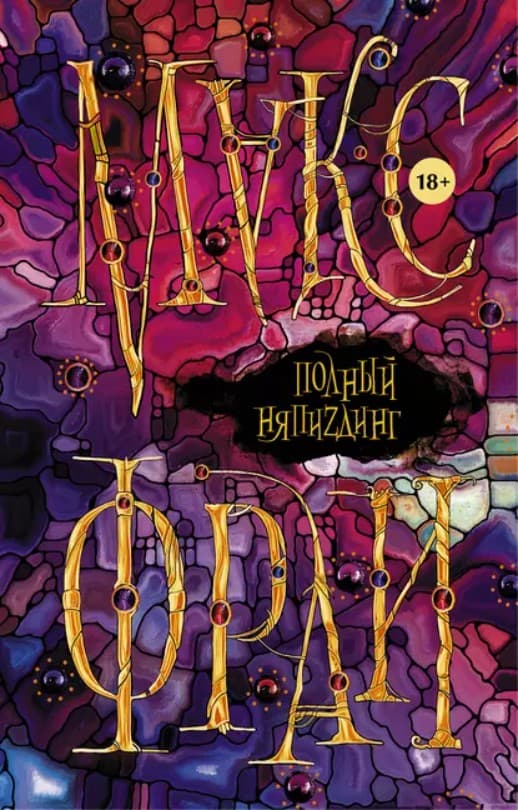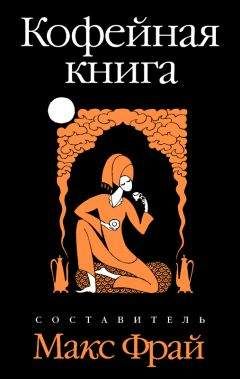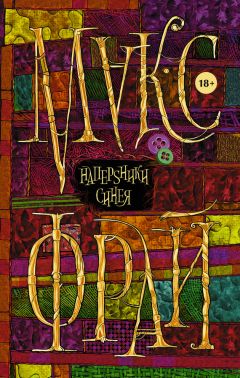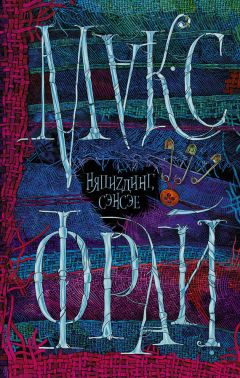детьми, играющими в партизан, пусть даже и с едой. А ненастоящего, «понарошку» и «покабудке» в нашей детской жизни и так было достаточно. Поэтому мы долго искали другое место и в конце концов нашли самый настоящий заброшенный двухэтажный дом, стоявший немного на отшибе, почти на самой границе жилого района с забором воинской части. Пустой, зияющий черными оконными проемами, без перекрытий и лестниц, с дырявой крышей — это если смотреть изнутри. А снаружи дом казался почти целым, только стекла выбиты, да крыльцо совсем сгнило. Стены дома были увиты виноградом, очень мелким, но удивительно сладким (значит, дом мы нашли в самом конце лета, а то и в начале осени, — подсказывает мой внутренний юный натуралист). Мои друзья сперва обрадовались находке, но уже на следующий день утратили энтузиазм и решили не устраивать штаб в заброшенном доме. Видимо, для них он оказался чересчур уединенным местом. И только мне — в самый раз.
Меня в этот заброшенный дом тянуло как магнитом, так что в конце концов, он стал моим персональным штабом, индивидуальными «штанами», командным пунктом моей партизанской войны с миром, которому, согласно завету философа Сковороды, полагалось ловить меня понарошку, вполсилы, так, чтобы не поймать.
Он, впрочем, все равно, конечно, поймал. Но потом. И выяснил, что я больно кусаюсь.
Э
Эксперимент
Если подходить к своей жизни как к сложному эксперименту, в котором ты принимаешь участие как минимум в качестве активного лаборанта (возможен карьерный рост), получается максимально эффективно использовать все, что тебе выдали на входе и потом добавляли по пути. Все природные данные, включая самые негодные, все невыносимые обстоятельства, весь т. н. негативный опыт, включая т. н. травмы будут работать на тебя (т. е. на становление и укрепление сознания), если подходить к ним с позиции: интересно, зачем мне выдали именно это, куда его приспособить и как применять? (А не «за что мне бедочке такое наказание», или «о, да я тута у нас избранник богов». Все на самом деле бедочки и одновременно избранники, не о чем париться, важно только, насколько успешно идет работа в лаборатории, как продвигается эксперимент.)
Это такое
Настоящий высокопробный идеализм — это такая штука. Когда лезешь в свои тайные кладовые проверять, что у нас там сегодня самый страшный страх и (самое, собственно, главное), как ты собираешься себя вести, встретившись с ним, под залежами обычного барахла (у меня, как у большинства органических существ, это страх перед хрупкостью скафандра, в который здесь заключено наше сознание), неизменно, с младенческих лет обнаруживаешь настоящий ужас: что вот переступаешь порог между жизнью и смертью, а там ничего нет. То есть вообще ничего, потому что то, что казалось «сознанием» было просто разновидностью деятельности мягкого мокрого мозга, и то, что казалось непроговариваемым смыслом, тоже его выкрутасы, а все эти так называемые прикосновения духа вообще результаты химического дисбаланса организма, который теперь умер и скоро сгниет, не о чем говорить.
Но интересно не это, мы же лезем в кладовку со страхами не ради странного мазохистского удовольствия, а чтобы знать, что мы с этим собираемся делать. То есть, как себя поведем.
Так вот, настоящий упертый идеалист точно знает, что в этот последний момент он совершит неописуемое, невозможное усилие, чтобы все это было: сознание, смысл, прикосновения духа, все вот это вот, противоречащее принципам примитивного материализма из брошюр для продвинутых пэтэушников с корочками о высшем образовании или без них, разница несущественна. Возможно оно или невозможно, а чтобы было. Любой ценой. Допустили мое существование, дорогие силы природы, теперь терпите, бог будет, и бессмертное сознание будет, и всякий там высший смысл, выхода у вас нет.
То есть настоящий идеалист — это такой специальный, полезный, обуянный гордыней чувак, который не просто верит в примат духа над материей, а готов, если что, слепить этот самый дух на коленке из того, что под рукой, на крайняк, из собственного распадающегося в последний момент сознания, ну что делать, если ничего больше нет.
Каждый день кто-нибудь из нас это делает. Заново, с нуля, хотите вы того или нет. Главное — я хочу.
Это удивительное чувство совершенной гармонии с миром, когда у себя во дворе в полной темноте кормишь черного уличного кота и вдруг слышишь, как в квартире на первом этаже часы бьют полночь.
Ю
Южный ветер
Знал бы кто, как отчаянно пахнет сейчас ранней черной пьяной весной и одновременно грибным сентябрьским лесом, знал бы кто, как победительно сияет на безоблачном небе желтый обмылок луны, знал бы кто, как свиреп южный ветер, когда поднимает с земли страшные черные листья позднего ноября и швыряет их в лицо Создателю, вопрошая: «Этта што?!»
Создатель безмолвствует, Он не сердится, на южный ветер совершенно невозможно сердиться, над ним даже посмеяться толком не получается, он такой юный, такой буйный, такой отчаянно последний, обнять и плакать, — думает Создатель, — обнять и плакать. Но держит Себя в руках.
Я
— Я люблю тебя больше жизни!
— Больше чьей жизни?
пауза
— Надо подумать. Хороший вопрос.
Я помню, как бесконечно давно, семь часов назад, мне хотелось написать, что:
В багажнике у меня капуста, в кармане три связки ключей, а в сердце тьма августовской ночи, такая специальная тьма, которая — просто удачный фон для звезд.
А теперь поздно это писать: капусту вынули, унесли в дом и даже частично съели, а от ночи почти ничего не осталось, небо уже прозрачное, скоро рассвет. Только ключи на месте, но это не то чтобы новость, ключи при мне всегда. С замками не так лучезарно, но порой попадаются и они. В довольно неожиданных местах.
Мне долго казалось, что важно иметь побольше ключей, замки приложатся. Но нет, наоборот. Без замка ключ ничего не стоит, зато замок, если что, можно и взломать, лишь бы был. И совершенно неважно, что означает эта метафора, что мы называем «ключами», а что «замками». И что мы имеем в виду, когда думаем о двери, в которую врезан замок. Важно только, что за дверью. А там…