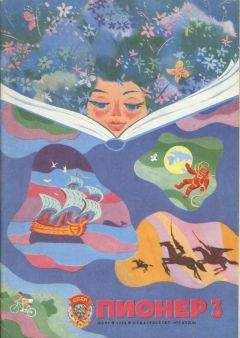Замер, как красиво. Полыхнуло по сердцу огнем-музыкой.
При ярких свечах лица бледные, руки взлетают, смех раздается.
Кавалеры в цветных шелковых и бархатных кафтанах, в чулках и башмаках с пряжками, пышные букли. В отдельной комнате пили вина, на длинных столах — оловянная посуда, соленые лимоны, фленсбургские устрицы. Зеркала в простенках отражали обманчивый свет восковых свечей, немецкие приседания, металось эхо нечаянных комплимантов, и сладко-сладко текло что-то нежное сквозь струи синего дыма.
Что? Что? Только через минуту узнал — менуэт.
Это же кавалер Анри Давид так говорил — менуэт.
Значит, все сбудется. Значит, и резвый контрданс прозвучит.
Раскрыв рот, смотрел на веселых дам. Стянуты узким костяным кирасом, исчезающим в фишбойне, башмаки на каблуках в полтора вершка вышины. Смотрел на кавалеров в алонжевых напудренных париках, на каждом широкие матерчатые шитые кафтаны, стразовые пряжки на башмаках. Платья у некоторых дам были одной с корсетом материи — с длинным хвостом, парчовые или штофные, шитые золотом, серебром, сплошь унизанные жемчугами и драгоценными каменьями, как на другой день пересказывал Алёша пораженному Ипатичу.
Потом пробилось сквозь марево:
«Нам прежде всего маринеры нужны».
Голос сиплый, чужой, будто прокуренный.
А в ответ твердый голос кригс-комиссара Благова:
«Я лично привез недорослей почти сто душ. Из них ладных вырастим маринеров».
Голоса отдалились, а дамы и кавалеры все летели и летели по зале крэгом, рондо, наверное, не обманул француз, все как в истинном парадизе.
Голоса снова приблизились.
«Дураков привез? Сопли мотать?»
«Умеючи и из дурака можно вырастить мастера».
«Врешь! — тот же голос. — Где твои недоросли? Кого зови сюда».
Алёша вздрогнул и обернулся. Как сквозь туман, огромного роста человек пристально смотрел на него. Глаза темные, в каждом зрачке по свече, щека и усы дрогнули, вдруг помертвев, рванул за плечо кригс-комиссара:
«Подкопы строишь?»
«Этого нет. Чисто игра природы».
«Какой уроженец? Какого дистрикта?»
Алёше показалось, что полковник сейчас ударит его, но ответил.
«Будем учить недоросля, — негромко повторял кригс-комиссар, не хотел с чем-то неведомым страшным смириться. — Будем учить. А природа что? В кунсткамере и не такое увидишь. Недоросль сей из Зубовых. Не глуп. Пойдет в Голландию с русскими командирами».
«Кто видел этого недоросля?»
«У меня живет, не выпускаю никуда».
Полковник поманил пальцем Алёшу:
«Каких морских птиц знаешь?»
Алёша ответил:
«Чайку».
«Зачем ее?»
«Кричит пронзительно, скрашивает непогоду».
«А северные ветры какие знаешь?» — Было видно, что усатого интересуют совсем не ветры, ярость раздувала его как быка. Видел что-то свое — другим невидимое, сильными прокуренными пальцами отвел со лба Алёшины волосы.
«Полуночник… Северяк… Холодик…»
«А каким блоком якоря тянут?»
«Этого пока не знаю».
«Хвалю, правду говоришь».
И опять новый вопрос, без перерыва:
«Кто держит табель на военном судне?»
По бешеным глазам понял, что выпячивать незнание больше не нужно.
Ответил скромно: «Секретарь повинен держать табель в добром порядке».
«Молчи! Молчи! — Усатый всей ладонью толкнул Алёшу в лицо. Сквозь общий шум крикнул кригс-комиссару: — В Пруссию, в Венецию — куда подальше. За свой счет! За столь преступное сходство сам плати!»
Опять это сходство. Понять ничего не мог.
Кригс-комиссар даже пожаловался: «Прости, Пётр Алексеевич. Вот весь как есть в издержках. Лошадей менял, недорослей вез в столицу. А недавно дивную Венус прикупил в вечном городе. Дворянин я бедный, под Азовом потерял ногу, левая рука сохнет. Когда бы не твое государево жалованье, то, здесь живучи, и есть было бы нечего».
Усатый снова уставился в замершего Алёшу:
«Что умеет? К чему способен? Знает ли грамоту?»
И голос кригс-комиссара: «Знает грамоту, рисовать способен».
И в ответ голос пронзительный, сиплый, уже отдаляющийся: «Не шути, Благов, ой не шути. Нам и повесить тебя не скушно. Незамедлительно отправь недоросля подальше, совсем далеко, может в Венецию. Пусть ухватывает нужное, а то спальники, которых туда посылал, выуча один лишь компас, на том остановились. Этого избегать. Пусть учится языкам, философии, географии, математике. Пусть пробует какие парсуны писать, делать план огородам и фонтанам. Пусть режет на прочных камнях статуры и всякие другие притчи, льет фигуры из меди, свинцу и железа, какой бы величин нам ни захотелось. Сам проверю. А узнаю, что по молодости лет делает банкеты про нечестных жен, повешу!»
И донеслось уже совсем издали: «Вернется недоросль таким, какой есть, в измене тебя уличу, Благов!»
25.
«Отправь недоросля подальше…»
«Нам и повесить тебя не скушно…»
«Вернется недоросль таким, какой есть, в измене тебя уличу…»
Да что же это такое? Какое такое преступное сходство? С кем? В чем? Кригс-комиссар ничего толком не объяснял, только отводил глаза. «Поступай, Алёша, как я скажу. — Каким-то особенным образом подчеркнул это я. — Хорошо учи то, что надобно. Помни о возвращении, а то ведь было уже — отправляли. При Годунове восемнадцать отпрысков поехали к немцам в Любек, но потом стало не до них, даже след затерялся. А у тебя, Алёша, еще сложней. У тебя, — посмотрел в упор, — все гораздо сложней. Тебе вернуться надо, и вернуться другим. — Опять изумленно посмотрел ему в глаза. — Учи чертежи, карты, компасы, прочие признаки морские. Тебе, как никому другому, надо хорошо знать снасть, инструмент, паруса, бомбардирству учиться. Ты же сам слышал, как было сказано: вернется недоросль таким, какой есть, в измене уличу!»
Алёша кивал, боялся. Помнил тревожные тетенькины слова.
Конечно, управлять имением можно и одноногому при сухой руке, но так возвращаться из дальних стран ему совсем не хотелось. Верил Господу и удаче, уже слышал, что отобранных недорослей собираются отправить в Пруссию кораблем, но дело откладывалось и откладывалось, кригс-комиссар ходил недовольный.
Но в конце концов первых учеников числом пять отправили.
Уходили морем, потом — лошади, потом снова морем. Первые полгода провел в Венеции. Бывшая империя сейчас занимала собой всего несколько прибрежных крепостей в Далмации да остров Китира к югу от Пелопоннеса. А ведь когда-то управляла всей торговлей между Востоком и Западом. На глазах сморщилась, даже на картах. Зачем я сюда, думал Алёша, чему здесь можно научиться? Вместо улиц каналы, передвигаются по городу на лодках, как в наводнение. Веслами управляют особые гондольеры, самый нужный народ в Венеции, их даже в оперу пускают бесплатно. А опера в Венеции, скоро узнал, начинается в семь вечера и продолжается до одиннадцати ночи. В опере поют. Там дивные хоры. Там в нишах вазы с узкими горлышками. От этого у Алёши сердце радостно билось. Оказывается, можно брать места даже возле самого оркестра, лишь бы с галереи не плюнули. Увидят, что используешь маленькую свечку, чтобы читать либретто, непременно плюнут.
А сам город серый, каменный. Ни лошадей, ни карет.
Главная площадь зовется Сан-Марко. Все остальное — кампи, то есть поля, где когда-то первые поселенцы разбивали свои ничтожные огороды. Длинные, как угри, лодки-гондолы крыты черным сукном, в тесных переулках перекликаются страшные веселые девки. Город называется Венеция, а главная болезнь в нем французская, об этом кригс-комиссар предупредил еще в Петербурхе. Запахнутые плащи, часто — карнавалы, будто жизнь из одних радостей состоит. Могут в масках ходить, даже в зверских куртках, в птичьих перьях, ни в Зубове, ни даже в Нижних Пердунах не встретишь подобных монстров. Все как бы в протестантском уклоне, но могут напасть на узком мостике, отнять кошелек, ударить ножом, ни один ночной сторож не убережет. На берегах за домами, поставленными опять же посредине воды, плоские, убитые водой пески, над ними крикливые чайки. И постоянно над серым мрамором башен, над тесными мощеными двориками, над белыми надгробиями каких-то давно павших воинов разносится гул колокола-марангона. Он поднимается все выше и выше над дворцами, седыми, влажными от росы, над площадью Святого Марка, над кампи, поросшими чахлой больной травой, над питьевыми цистернами, обмазанными серой глиной.
В два дни недоросли растерялись по разным квартирам.
А затем четверых отозвали срочным письмом во Францию, только Алёша с Ипатичем остались в Венеции. Приписали их к доку Сан-Тровазо в районе Дородуро. Выходил док прямо на церковь тоже по имени Сан-Тровазо. Деревянные гондолы, сандоло, пуппарини, счьопоны — все там быстро и ловко строили, а самое диво было то, что часть домов в Дородуро тоже была из дерева. Это сразу бросалось в глаза. Плавают, что ли? Да нет, Ипатич скоро узнал, что стоят дома на фундаменте из тяжелой расколотой лиственницы. В сущности, нет никакой разницы — камень или лиственница мореная. И то и другое — на века.