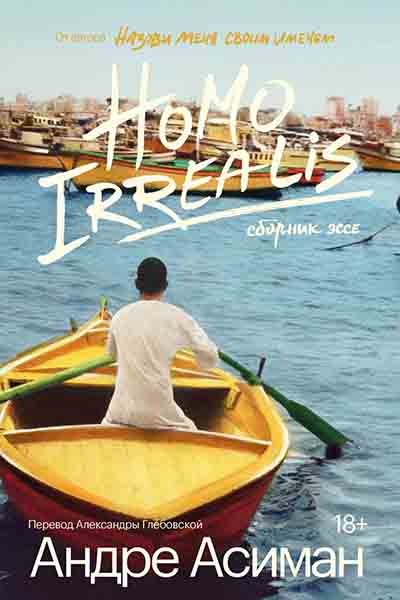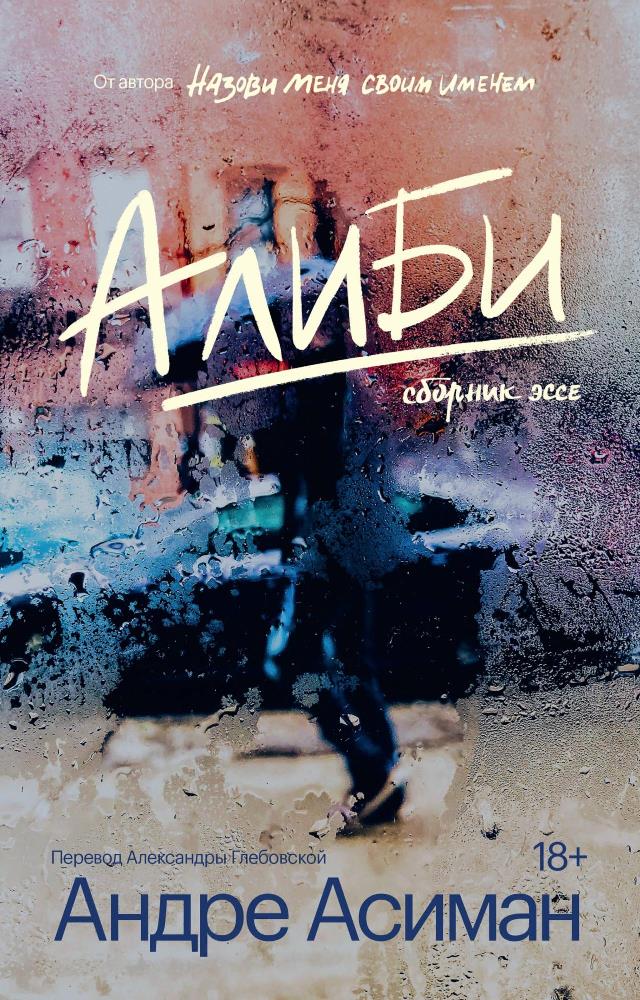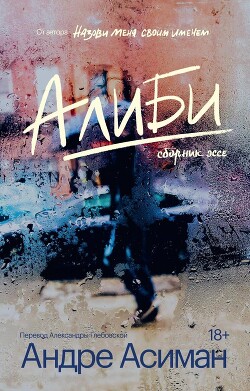не сумел надоесть? — спрашивает он.
— Не сумел.
— Потому что я каменный и не меняюсь?
— Может быть. Но и я не поменялся, ни в чем.
Как бы ему хотелось облечься плотью, ну вот на один этот миг, — вот что он мне говорил, когда я был моложе.
— Сколько уже времени-то прошло, — говорит он.
— Знаю.
— Ты состарился, — замечает он.
— Знаю. — Хочется сменить тему. — А из других кто-то любил тебя так же сильно?
— Другие будут всегда.
— Тогда чего же во мне особенного?
Он смотрит, улыбается.
— Да нет в тебе ничего особенного. Ты чувствуешь то же, что и любой человек.
— И все же ты меня не забудешь?
— Я никого не забываю.
— А ты испытываешь хоть какие-то чувства? — спрашиваю я.
— Разумеется, испытываю. Я всегда испытываю чувства. Как не испытывать-то?
— В смысле, ко мне.
— Понятное дело, к тебе.
Я ему не верю. Я вижу его в последний раз. Очень хочется, чтобы он хоть что-то сказал — мне, для меня, про меня.
Я уже собираюсь выйти из музея, и тут мысли вдруг обращаются к Фрейду, который наверняка приходил в Пио Клементино вместе с женой, или дочерью, или с близким венским другом, на тот момент обосновавшимся в Риме, — музейным хранителем Эмануэлем Лоуи. Полагаю, два этих еврея некоторое время стояли и обсуждали статую — а как иначе? Тем не менее Фрейд нигде не упоминает Сауроктона, которого наверняка видел и в Риме, и в Лувре, в студенческие годы. Наверняка он о нем думал, когда писал про ящериц в комментариях к «Градиве» Йенсена. Впрочем, и про Винкельмана он упоминает лишь однажды, хотя тот, как и он, наверняка видел бронзовый оригинал этой статуи каждый день, когда работал в доме у кардинала Альбани. Я знаю: молчание Фрейда не случайность, в его молчании есть нечто уникально фрейдистское, как вот знаю, что он наверняка думал о том же, о чем и я, о чем думают все, увидев Сауроктона: «Это мужчина, похожий на женщину, или женщина, похожая на мужчину, или мужчина, похожий на женщину, похожую на мужчину?» Вот я и задаю статуе вопрос:
— Помнишь бородатого венского доктора, который захаживал сюда и притворялся, что на тебя не смотрит?
— Бородатого венского доктора? Может быть. — Аполлон опять увиливает, но, впрочем, и я тоже.
Зато я помню его последние слова. С ними он обратился ко мне когда-то давно и в точности воспроизвел их пятьюдесятью годами позже:
— Я заперт между жизнью и смертью, между плотью и камнем. Я не живой, но посмотри на меня — я куда живее тебя. Ты же, в свою очередь, не мертв, но был ли ты когда-то живым? Добрался ли до противоположного берега? — И нет у меня слов, чтобы возразить или ответить. — Ты открыл для себя красоту, но не истину. Изволь изменить свою жизнь.
Первое мое Вербное воскресенье в Риме. На дворе 1966 год. Мне пятнадцать лет, мы с родителями, братом и тетушкой решили сходить посмотреть Испанскую лестницу. В этот день на лестнице многолюдно, повсюду горшки с цветами, так что приходится протискиваться сквозь толпу туристов и римлян, несущих пальмовые ветви. У меня остались фотографии того дня. Я знаю, что счастлив — отчасти потому, что папа ненадолго приехал из Парижа и у нас вроде бы опять полная семья, отчасти потому, что погода выдалась умопомрачительная. На мне синий шерстяной блейзер, кожаный галстук, белая рубашка с длинным рукавом, серые фланелевые брюки. Я едва не сварился в этот первый день весны, и мне страшно хочется раздеться и прыгнуть в фонтан Баркачча у подножья лестницы. По идее, день этот нам полагалось бы проводить на пляже, и, видимо, именно поэтому он задевает во мне столько разных струн.
Двумя годами ранее, в 1964 году, мы, скорее всего, справляли Шам-эль-Нессим, весенний александрийский праздник, которым для многих из нас было обозначено первое в году головокружительное купание. Но в тот же день года в Риме я совсем не думаю про Александрию. Я даже не отдаю себе отчета в том, что между Римом, этим приступом пляжной лихорадки и Александрией может быть какая-то связь. Мечта прыгнуть хоть в какой-то водоем и выпить его досуха, постоянный поиск тени, подальше от палящего солнца — вот чего хочет мое тело теперь, оказавшись в тисках невыносимой шерсти.
После долгой прогулки по Пинчо мы спускаемся обратно к подножью лестницы, останавливаемся купить каждому по стакану сока и по бутерброду в маленьком угловом баре на виа делле Вите. В баре погасили свет, чтобы там было попрохладнее. Внутри хорошо. Бутерброд я заказываю попроще, только с капустным салатом.
Выясняется, что магазинчик старой книги рядом с Домом Китса и Шелли у Испанской лестницы в этот день открыт. Мы с отцом погружаемся в любимое наше общее занятие: ищем книги, которые мне следует прочитать. Он указывает на потрепанный томик рассказов Чехова, но мне хочется прочесть «Оливию». Ее мы и покупаем. Отец говорит, что читал ее по-французски, и обещает, что она наверняка затмит Достоевского, которого я поглощал весь тот год. У отца очень четкие мнения о книгах. Он недолюбливает современных читателей, недолюбливает, когда сердца превращают в лавки старьевщиков; все, на чем остался запашок нашего привычного мира, его отвращает. Ему предпочтительнее слегка устаревшая литература, в возрасте лет тридцати-сорока. Тут я его понимаю. Все в нашей семье чувствуют себя слегка устаревшими, выбившимися из ритма остального, реального, нынешнего мира. Нам нравится прошлое, нравится классика, мы не принадлежим настоящему.
Через неделю отец уже снова в Париже. Суббота, я снова на Пьяцца-ди-Спанья, на сей раз один. Многие цветочные горшки уже унесли, но и осталось немало. Домой мне не хочется, я околачиваюсь у Испанской лестницы. Около полудня захожу в тот же самый бар, покупаю бутерброд с капустным салатом, как и неделю назад. Покупаю и книгу, которую отец бы точно одобрил: рассказы Чехова. Второй час дня, район пустеет, все магазины закрыты. Я сижу на теплых ступенях Испанской лестницы и мирно читаю. На самом деле мне не сосредоточиться на сюжете; очень хочется ощутить дуновение морского ветра. Хочется перенестись на неделю вспять, к ощущению благополучия и изобилия, которое внезапно вспыхнуло в нашей жизни без всякого предупреждения и объяснения в Вербное воскресенье.
Месяц примерно после этого дня я каждую субботу покупаю по книге, по бутерброду с капустным салатом и приступаю к чтению на Испанской лестнице. Связи с Александрией у меня в голове пока что не