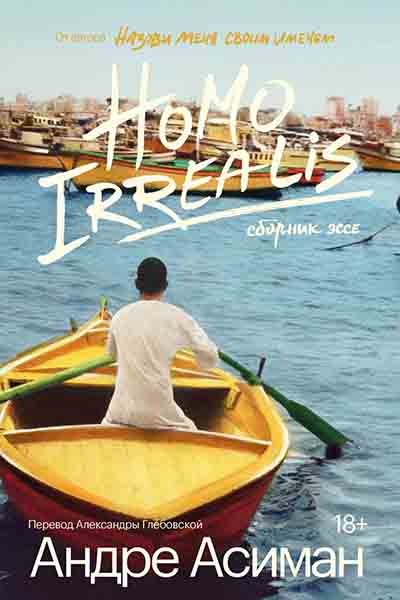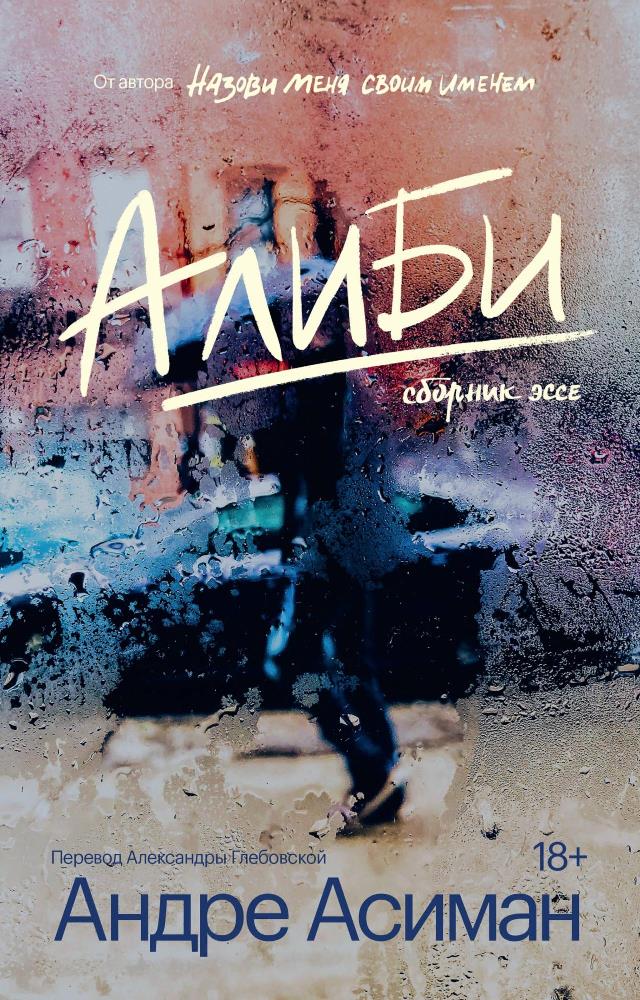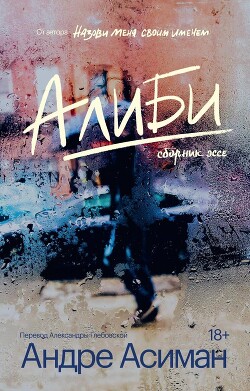ощутить, что твое личное время и винтажное время магическим образом синхронизируются; скорее дело в том, что само слово «винтаж» является фигурой речи, метафорой для обозначения того, что очень многие из нас на деле принадлежат не настоящему, прошлому или будущему — но все мы находимся в поисках жизни, которая существует где-то в другом месте во времени или на экране, и, будучи не в состоянии ее отыскать, мы научаемся довольствоваться тем, что подкидывает нам жизнь. В случае С. С. Бакстера это происходит в канун Нового Года, когда Фрэн Кубелик — заинтересовавшая его дама (ее играет Ширли Маклейн) — стучит ему в дверь, садится на его диван и, глядя, как он тасует карточную колоду, говорит: «Заткнись и сдавай». В моем случае жизнь предлагала мне вещь куда более простую: в тот поздний воскресный вечер я пошел еще раз посмотреть «Квартиру». Фильм этот был про меня. Любое великое произведение искусства неизменно позволяет нам сказать одну и ту же вещь: «Да, это действительно про меня». И в большинстве случаев это становится не просто утешением, но и воодушевляющим откровением, которое напоминает нам: мы не одни, другие тоже такие. А большего я и просить не мог. Тогда я отправился в то же паломничество, что и предыдущей ночью. Возможно, на сей раз я открою нечто, что прошлой ночью упустил.
Когда-то я думал: если главенствующим принципом всех трудов Макиавелли является приобретение — приобретение власти, территорий, лояльности, как их приобрести и как потом удержать, то для Пруста это обладание — желание, стремление обладать, удерживать, накапливать, хранить, иметь. Теперь я уже в этом не уверен. Мне кажется, что центральным мотивом Пруста является стремление, а если точнее — тяга и тоска. Тяга в Американском словаре английского языка определяется как «упорное, зачастую печальное или меланхолическое стремление». Тоска же — «истовое, прочувствованное желание, особенно в отношении чего-то недоступного». Однако один человек предложил куда более тонкое различие между двумя этими понятиями: тягу мы испытываем к чему-то из будущего, тоску — по чему-то из прошлого.
Длинная эпопея Пруста начинается с одержимости маленького мальчика материнским поцелуем перед сном. Она внизу, развлекает гостей за ужином, а мальчик, который, встав из-за стола, должен идти спать, хочет, чтобы его поцеловали на ночь. Причем нужен ему настоящий, реальный поцелуй, не поверхностный клевок в щеку, который он получил в присутствии гостей. Тем не менее, поднимаясь в спальню, он как может старается сохранить воспоминания о торопливом материнском поцелуе, лелеет его, а после прибегает ко всевозможным ухищрениям, чтобы заполучить поцелуй, который ему задолжали. В результате он просит служанку Франсуазу отнести матери торопливо нацарапанную записку, а когда это ни к чему не приводит, маленький Марсель дожидается ухода всех гостей и перехватывает мать по дороге в спальню. Она недовольна, что он ее не послушался и не лег спать, однако его отец, который случайно оказывается свидетелем этой сцены и в принципе куда более строг с сыном, видит, как сильно Марсель возбужден, и предлагает матери провести с ним ночь. В результате Марселю достается не только поцелуй, которого он так истово добивался весь вечер, но и целая ночь в мамином обществе:
Казалось бы, какое счастье, но счастья не было. Мне представлялось, что мама впервые пошла на уступку, которая была для нее, наверное, мучительна; что впервые она отреклась от того идеала, который предначертала для меня, и что впервые она, такая мужественная, признала свое поражение. <…> …мне по некоторым причинам казалось, что это все неправильно и что ее гнев опечалил бы меня меньше, чем эта внезапная мягкость, которой мое детство не знало; мне казалось, что от моей нечестивой руки исподволь пролегла первая морщина в ее душе и появился первый седой волос [5].
Марсель начинает плакать, мама тоже на грани слез. Видимо, именно отчаянное стремление заполучить, удержать, забрать себе и сохранить навсегда и не давало маленькому Марселю заснуть после того, как мама согласилась поцеловать его за ужином, однако и достижение желаемого не приносит ему удовольствия; точнее, удовольствие ему выпадает настолько незнакомое, что его недолго перепутать с неудовольствием и горем — а их не облегчишь, да и не развеешь. Если раньше поцелуй был материальным знаком согласия, близости и связывавшей их любви, то теперь он обозначает отстраненность, разочарование, разрыв. Заполучив желаемое, ты тем самым его лишаешься.
Если не считать любви между матерью и сыном (а также бабушкой), самой распространенной формой любви у Пруста является любовь, к любви никакого отношения не имеющая. Речь скорее идет о навязчивом мучительном преследовании любимого человека, доходит до того, что любимая становится пленницей в доме любящего. Пусть ты ее на самом деле не любишь, не хочешь ее любви, не знаешь, что делать с этой любовью, а уж тем более — что эта любовь из себя представляет, но тебе не отделаться от навязчивых мыслей о том, что любимая, возможно, тебя обманывает. На деле, пусть этого полностью и не понять — и перед нами опять призрак прустовского отсутствия обладания, — даже будучи твоей пленницей, возлюбленная найдет лазейки для измены. Хуже того, ты сам создашь ей возможности для обмана, либо не обратив внимания на тех, с кем позволил ей завести дружбу, либо просмотрев ее предательство, а то еще в нем и поучаствовав. Да, Одетта приносит Свану множество горестей, но он совсем ее не уважает, да и не ведется на ее ложь. После их разрыва он произносит про себя один из самых знаменитых финалов в мировой литературе: «Подумать только: загубил годы жизни, хотел умереть, сгорал от любви — к кому? Она мне и не нравилась даже, это не мой тип!»
Однако через много страниц мы выясняем, что Сван все-таки женился на женщине, которую никогда не любил и которая при первой встрече вызвала у него «что-то вроде физического отвращения» (une sorte de repulsion physique). Когда мы вновь встречаемся со Сваном в «Под сенью дев, увенчанных цветами», он уже давно разлюбил свою жену Одетту и теперь терзается ревностью по поводу другой женщины. Но, как пишет Пруст:
А все-таки в течение нескольких лет он продолжал отыскивать бывших слуг Одетты: его по-прежнему терзало любопытство, ему нужно было знать, спала ли она с Форшвилем в тот давно минувший день, в шесть часов. Потом исчезло и любопытство, а розыски все еще продолжались. Он по-прежнему пытался выяснить то, что его больше не интересовало, потому