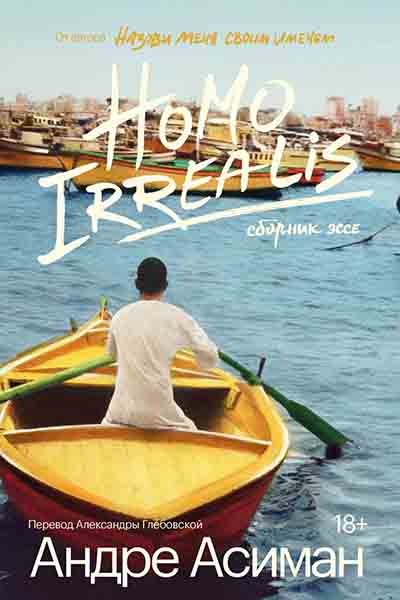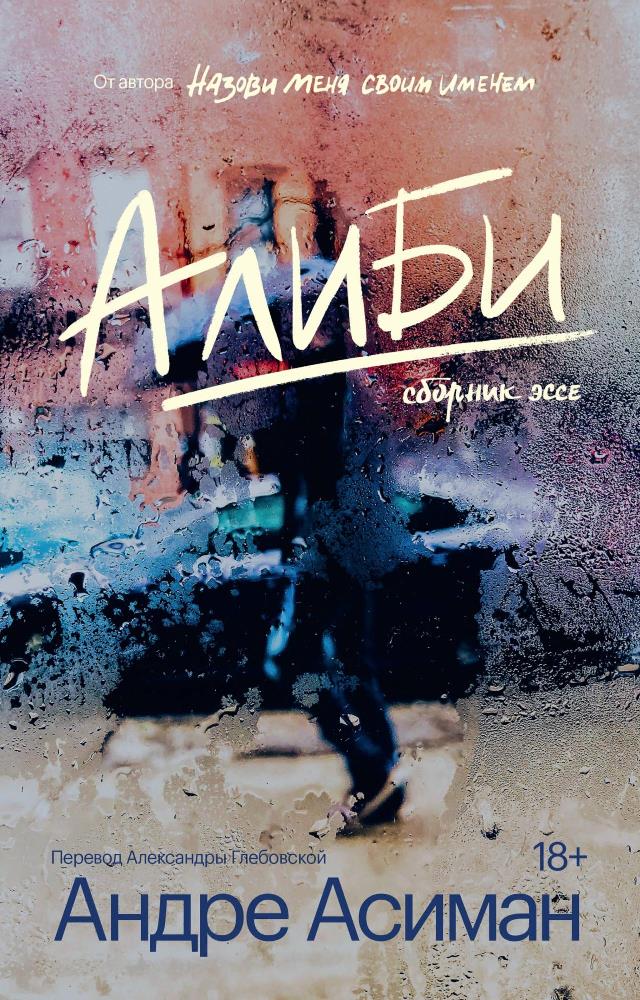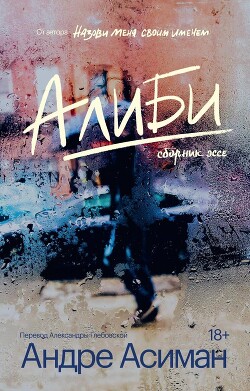наивные заблуждения и пустячные парадоксы все строятся на его нежелании — или неспособности — воспринять и оценить обыкновенный опыт или, иными словами, вписаться в ход обычного линейного монохронного времени. Он постоянно цепляется за предчувствие чего-то большего, чего-то, что нужно к себе притягивать, чего и вовсе не существует в нормальном времени, — и оно немедленно прыснет прочь, едва лишь возникнет возможность его схватить. Всё, от его нарратива до стилистики, завязано на выжидание, ретроспекцию и, разумеется, предчувствие ретроспекции.
Когда отношения между Марселем и Жильбертой наконец начинают портиться и он понимает, что она от него отстраняется, он принимает решение не появляться в доме у ее родителей и всевозможными способами ее избегает, когда ему все-таки приходится там бывать. Изображает равнодушие. Но с любовью Марселя все происходит так же, как и с поцелуем Свана:
…я знал, что когда-нибудь разлюблю Жильберту, знал даже, что она об этом пожалеет и будет пытаться меня увидеть; у нее это не получится, но уже не потому, что я слишком ее люблю, а потому, что я наверняка буду любить другую женщину, буду желать, ждать эту другую часами, из которых ни одного мгновенья не посмею потратить на Жильберту, ведь она станет мне не нужна. <…> Страдание помогало мне догадаться об этом будущем, в котором я уже не буду любить Жильберту, хотя воображение еще отказывалось мне его показать; но, наверно, еще не поздно было предупредить Жильберту, что оно постепенно воплотится в жизнь, что это неминуемо, неотвратимо, если только она не придет мне на помощь и не убьет моего равнодушия в зародыше. Сколько раз я готов был написать Жильберте или пойти к ней и сказать: «Берегитесь, я решился, эта моя попытка — последняя. Я вижу вас в последний раз. Скоро я вас разлюблю».
В итоге все остается нереализованным. Сван пытается воскресить в памяти, как он желал Одетту, одновременно постоянно прощаясь с «Одеттой, которой он еще не обладает», и с Марселем происходит примерно то же самое. Да, он пытается вспомнить некогда существовавшую в его воображении картину дома Сванов, в котором он еще не бывал, но одновременно он предчувствует тот момент, когда сделается совершенно равнодушен и к этому дому, и к Жильберте, которой так и не обладал.
* * *
Есть в текстах Пруста настоящее время?
Есть там опыт?
Есть там любовь?
Фундаментальный регистр нарратива Пруста — всеобъемлющий в значении всеохватный. Пруст умудряется охватить решительно все; он ничего не намерен отпускать. Помимо того, что стиль Пруста якобы сложен, он представляет собой самый совершенный из всех изобретенных в языке механизмов для рассматривания, постижения и усвоения любого опыта. Но стиль этот ставит одно условие: он постоянно исходит из того, что схваченное ему не удержать. Подобно любовнику, который уже полностью очарован, он стремится запечатлеть каждую подробность, каждое мимолетное впечатление, каждое мгновенное ощущение, воспоминание, каждый игривый взгляд, по которому можно судить, заслуживает собеседник доверия или нет. Его задача — увековечить прошлое, запечатлеть настоящее и по мере возможности предвосхитить или предвидеть будущее, которое уже стало предвкушаемым прошлым. В этом смысле ревность — это не только знаковая фигура, которой пронизан весь всеобъемлющий проект Пруста, она еще и сигнализирует, что попытка любого охваченного желанием человека обладать или доверять заведомо провальна. Ревность, как учит нас история мировой литературы, по сути своей беспардонна — она не в состоянии ухватить, удержать, она лишена значения. Она предвидит измену или, хуже того, является ее причиной. Желание обладать всегда включает в себя отсутствие обладания.
Однако Пруст не только обращается с миром так, как если бы тот был уклончивым и изворотливым партнером, который своей ложью плетет самовоспроизводящуюся паутину обмана, но — это мы знаем по типографским гранкам — с текстом он делает то же, что текст уже делает с миром. Каждое пытливое предложение открывает новое пространство для пытливости и интерполяций. Каждая страница, где тщательно разбираются обманы Одетты, Мореля и Альбертины, сама потом подвергается подробному разбору и исправлению. Процесс пытливого письма регрессивен, дигрессивен, околен. Все, что есть на странице, порождает собственные протоки и мини-протоки. Достаточно взглянуть на гранки набора после редактуры Пруста, чтобы убедиться в истинности моих слов.
Мускулистые, протяжно-изворотливые фразы Пруста, оглядчиво берущие в осаду реальность, в итоге принимают участие если не в зарождении истины, то в том, чтобы ее отсрочить, иногда — затмить, в конечном счете — лишить реальности. Либо из поля зрения выпадает малозначительный, но не безотносительный факт, либо ирония раз за разом вышибает из седла серьезность, с которой начинается путь каждой фразы.
Даже награды и отступления, которые процесс письма как таковой дарует нарратору, служат отклонениями от цели. Дело в том, что прустовская фраза, столь умелая и несказанно прекрасная, в итоге способствует лишь одному наслаждению сильнее, чем раскрытию или даже отсрочиванию истины: она с отменным аппетитом и восторгом показывает, что ей не по чину и не по силам довести до конца свое пытливое расследование. Фраза тучнеет на собственных ошибках и недосмотрах, отрицает все те приемы, которые сама же столь ловко изобрела, выхваляется своей способностью усомниться в том, в чем вроде как добилась ясности. Она ставит под сомнение все, включая и саму себя. Ей нравится демонстрировать, что высшее доступное ей знание — это уверенность в том, что она сама этого не знает, да и не знает, как узнать. Любая попытка опровергнуть эту отрицательную информацию впоследствии отрицается как еще более недостойная форма невежества. Стремление раскрывать тайны мира становится характерной для Пруста манерой повествования о мире и характерным для Марселя способом существования в этом мире. Марсель не предпринимает никаких действий, да прустовский текст и не повествует о действиях. Они оба рефлексируют, осмысляют, вспоминают, раздумывают. Ирония, теневой партнер «почему-я-тогда-не-знал-что-такой-то-таков-то», неизменно устраняет то, что могло бы стать прямолинейной, вполне приемлемой истиной. Получить желаемое — значит оказаться в тупике.
Прустовский влюбленный, как и прустовский нарратор, привык определять свое бытие в мире как череду прозрений и навязанных размышлений. Его образ жизни и действий сводится к тому, чтобы размышлять — писать — описывать размышления. Он, как ревнивый нарратор, исключен из мира поступков, сюжетности, доверия, любви и низведен до роли наблюдателя и толкователя. Выбрав подобный процесс письма, он заранее понизил себя из активного участника до пассивного наблюдателя, из любимого до ревнивого влюбленного, из пылкого влюбленного до равнодушного. Сам процесс письма вязнет в извивах ревности.
Прустовский процесс письма отражает в себе чувственность, лишенную доступа к миру, к сиюминутности. Этот