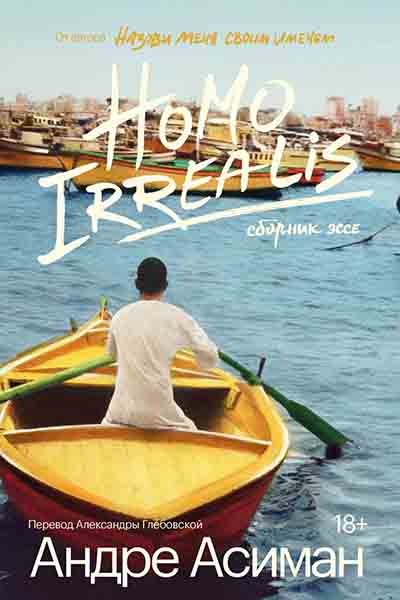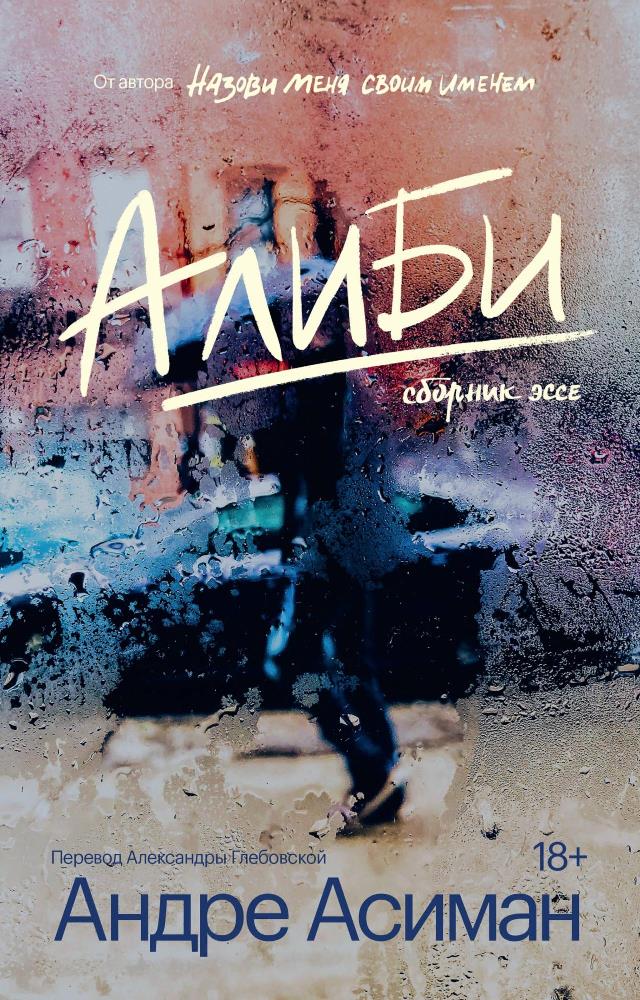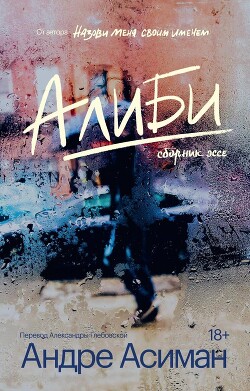свежесть посреди полуденного зноя, заставляет меня обо всем забыть. Веки сладостно тяжелеют… Я чувствую, как то же солнце золотит поля, где меня нет, но где мне очень хотелось бы быть. Шум города претворяется тишиной. Какая она нежная! Но была бы еще нежнее, будь я способен чувствовать.
Не хватает как раз ощущения или, еще точнее, осознания ощущения. В другом месте Пессоа пишет:
В такие моменты я странным образом от всего отдаляюсь. Я будто стою на балконе жизни, как бы за ее пределами. Я над ней, я вижу ее оттуда. Она раскинулась передо мной, спускается террасами к облачкам дыма над белыми сельскими домиками в долине. Я закрываю глаза и продолжаю видеть, ибо не вижу. Открываю их — и больше не вижу ничего, ибо и не видел. Я весь — неявная ностальгия, тоска не по прошлому и не по будущему: тоска по настоящему, безымянная, повсеместная, непонятная.
Он жаждет заполучить избыток сознания, который способен остановить и дополнить опыт и время, но ценой преодоления, а значит — торможения времени и опыта. Мы стремимся к осознанию сознания, к получению большего, чем нам может дать опыт, мы хотим всюду оказываться вовремя, а не до и не после назначенного времени — и сознавать это. Но такое невозможно. Сумерки сознания — цена за способность дотянуться за пределы сознания. Как пишет Ларошфуко: «Самое провальное проникновение [penetration] — то, которое не попадает в цель, а проходит мимо».
Об отлучении от некоего места рассказать несложно, а вот неприкаянность во времени — это проклятие, о каком берутся рассуждать очень немногие писатели. «Вспоминаю о нем с тоской уже сейчас, как бы в будущем, когда я буду тосковать о нем, я это знаю».
Чувствую себя изгнанником из собственной души. <…> То, что я чувствую (сам того не желая), и есть чувство, необходимое для описания этих чувств. Мысли сразу превращаются в слова, к ним примешиваются образы, уничтожая мысли. Пересоздав себя, я себя разрушил. Я столько о себе размышлял, что превратился в собственные размышления.
Сколько я всего пережил, не переживая! Сколько передумал, не думая! Я устал от того, чем никогда не обладал и обладать не буду, мне скучно существование богов. Я страдаю от ран, полученных в сражениях, в которых я не участвовал. Тело и мышцы измотаны усилиями, которых я не совершал.
Все, кто писал про «Книгу непокоя» Пессоа, считали своим долгом рассмотреть гетеронимы автора — многочисленные писательские личины, посредством которых он создает для каждого голоса в тексте другого автора. Меня этот предмет никогда особо не интересовал, и я оставлю его в стороне. Меня больше интересует осознанная неспособность Пессоа стоять обеими ногами в одной временнóй зоне. Вместо этого и он сам обитает в нескольких ирреальных наклонениях, и они в нем.
…мне делалось непросто вспомнить себя вчерашнего, назвать своим того, кто живет во мне каждый день. <…>
Сильнее всего ранят чувства, сильнее всего огорчают эмоции, которые принято называть абсурдными: тоска о невозможном, поскольку оно невозможно, ностальгия по неслучившемуся, стремление к несбывшемуся, боль оттого, что ты тот, кто есть, неудовлетворенность миром. Все эти полутона души [meios tons da consciência] создают внутри некую болезненную картину, вечный закат солнца [um eterno sol-pôr] над нашей сутью. Самоощущение — это пустынное темное поле, где печален тростник у реки без лодок, лежащей черною полосой меж широких берегов.
Каждый дом на моем пути, каждое шале, каждая хижина, выбеленная известью и тишиной, — в каждом из них я как бы поселяюсь на миг, сперва мне там хорошо, потом скучно, потом невыносимо; я чувствую, что, покидая каждый дом, уношу оттуда мучительную ностальгию по проведенному там времени. В результате все мои странствия — это болезненно-радостный урожай великих восторгов, необъятной скуки, неизбывной мнимой тоски. <…>
…если они когда-нибудь это случайно прочитают, то увидят то, чего никогда так и не сказали, и будут мне благодарны за то, что я так точно истолковал не только то, кем они являются, но и то, кем они никогда не хотели быть и не знали, что были…
Стремление к парадоксам есть не что иное, как попытка перекинуть мостик между двумя неопределимыми наклонениями, двумя безнадежно смешавшимися личинами, двумя непримиримыми грамматическими временами: никогда не то, что есть, но «стремление к тому, что могло бы быть». В пространстве между двумя вечностями существует зазор, не менее нереальный, чем два экстремальных проявления нереальности по обе стороны:
Не хочу обладать своей душой, но и отрекаться от нее не хочу. Хочу того, чего не хочу, отрекаюсь от того, чего не имею. Не могу быть ничем, не могу быть всем: я мостик между тем, чего не имею и чего не хочу.
Я существую, сам того не зная, и умру, хотя мне этого и не хочется. Я — зазор между тем, чем являюсь и не являюсь, между тем, о чем мечтаю и чем меня сделала жизнь.
Лучше всего это сказано в стихотворении Пессоа Là-bas, je ne sais où («Там, не знаю где»):
Остаться — отъезд лишь в мыслях,
Остаться — и так и нужно,
Остаться и не совсем умереть…
<…>
Уехать!
Я не вернусь.
Не вернусь — возвращения нет.
В зазоре между «всегда и никогда» (zwischen Immer und Nie) Пауля Целана, между отъездом и отсрочкой отъезда, бытием и небытием, между слепотой и двоящимся во времени зрением (voir double dans le temps) у Пруста — время Пессоа всегда будет пространством ирреалиса: могло случиться, но не случилось, но не становится из-за этого нереальным и еще может случиться, хотя мы и опасаемся, что не случится, а порой желаем, чтобы все-таки не случилось совсем или хотя бы пока.
И вот наконец стихотворение Пессоа, написанное в оригинале не на португальском, а на английском:
Когда-то жил, возможно, никогда,
Но точно жил неведомый король,
Страной Зазоров правил он тогда,
Той, что лежит промеж отсель дотоль,
Владел он межеумной частью нас,
Что четко отделяет сон от яви,
Молчание от речи, нас самих
От осознанья нас; и в смутный час
Царил он в той неведомой державе,
И мысль, и суть иные там у них.
Царь замыслов, не знающих творца,
Тех, что почти свершились, тех, что не,
Он — тайна тайн, он правит без венца
Меж зрением и глазом;