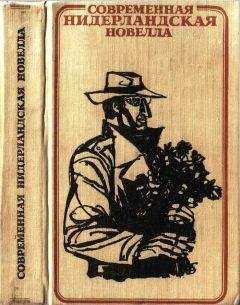Он должен был меня заметить — я как раз что-то пробормотал, — но, видимо, подумал: здесь уж есть один, а мне лучше спуститься на следующий этаж.
Мне этого было достаточно. Теперь я понял: черти не обладали абсолютным знанием, присущим их повелителю, они всего лишь исполнители, обыкновенные духи, и их можно одурачить.
Самым лучшим было бы отсидеться в потемках, пока все не кончится, по крайней мере если мой дом не пострадает от трещин или сотрясений земной коры, от тяжелых ударов кувалды или от огня. Скопившуюся здесь за долгие годы рухлядь я быстро собрал в кучу, соорудив что-то вроде горного пейзажа, где мог заниматься поисками сколько угодно. В корзине со старыми игрушками я нашел несколько жженых пробок и, покрасив лицо в черный цвет, воспринял это как указание свыше; ко мне вернулось относительное спокойствие, теперь я мог надеяться последним остаться в живых. Внутренняя дрожь утихла.
В ожидании дальнейших событий я присел на ящик, готовый при малейшей опасности снова скрыться за кучей рухляди. По предсказаниям пророков, это должно продолжаться не более одного дня.
Когда во время ярмарок ты приближался, бывало, к месту празднества, к гудящему столбу возгласов, гула, трезвона, лязга и звуков шарманки, тобой овладевал могучий, вдохновляющий ритм, тебя охватывало глубочайшее волнение, и желание самому ринуться в возбужденную толпу становилось неудержимым.
Так было и теперь. Чем громче и пронзительнее делались звуки, чем отчетливее я чувствовал, как этот гам все плотнее обступает мой дом, тем труднее мне было усидеть на ящике в уголке, в стороне от великого события.
Может быть, рискнуть и вернуться на свой наблюдательный пункт в спальне?
Правда, внешность моя изменилась не до конца: на ногах у меня осталась человечья обувь, — но кто в этом адском котле сумеет обнаружить подобную деталь. И я вновь подошел к окну.
Воздух со всех сторон, весь купол небес, казался наполненным ровным, но сильным пламенем, которое высвечивало каждую вещь целиком, проникало в самые укромные уголки и закоулки, — повсюду на земле пропала тень, будто солнце растаяло. И в углах моей комнаты, и на всем чердаке, раньше таком темном, был неземной свет, я различал переплетение балок, которых за прошедшие годы не видел ни разу.
На Большой улице, и в соседних переулках, и на площади Схилд суетливо метались людские фигуры, а среди них тут и там возникал ангел, как сверкающий остров святости, остров спасения. Многие грешники кидались к нему в своем крайнем отчаянии, хватались за его одежды и крылья, но, когда давка становилась чересчур большой, ангел терял терпение и отстранял их от себя быстрыми взмахами крыльев, а если это не удавалось, поднимался в воздух и опускался снова чуть подальше.
В невероятной сутолоке бегства и погони, ловли и сопротивления я внезапно обнаружил мясника Меккелхорста. Он передвигался на четвереньках, точно боров, был гол, как свиная туша, а в его жирной спине торчали шесть ножей, вонзенных почти до рукоятки, по три с каждой стороны. Его преследовал отряд чертей, пытавшихся набросить на рукоятки ножей кольца, превратив мясника в передвижной аттракцион. Кровь из него, как ни странно, не текла.
Из тел других бегущих тоже торчали копья или пилы, у некоторых почти полностью была содрана кожа (многих я узнал, но не буду называть их фамилий), однако крови я не видел нигде.
Не видел я также мертвых и потерявших сознание, хотя кое-кто от страха выбрасывался из окон, а иные во всеобщей давке попадали под ноги бегущих, — всюду сохранялась жизнь и толчея.
Перочинным ножом, который мне совсем недавно наточил Хендрикс, я сделал надрез на ладони. Боль была обычной, но кровь не появилась, словно я резал кусок резины. Несмотря на переодевание, я, следовательно, не избежал общей участи. Мы стали бессмертными, нам дарована вечная жизнь.
Впрочем, для многих это была уже не жизнь, а нескончаемые муки. Что там ползет на сточной канаве? Громадная черная змея, но вместо проглоченного чужого тела внутри нее чужое тело окружало змею снаружи. Эге, да это же Хендрик Ян Вегеринк из Ректума, по прозвищу Гвоздь, первый скряга во всей округе. Змея вползла в него сзади и до половины вылезла наружу через рот, теперь Хендрик Ян Вегеринк должен вместе с ней ползти по мостовой, а при приближении ангела вместе с ней скручиваться в кольцо и тереться об ее шероховатую кожу, ибо змея при виде ангела начинала извиваться, как червь, на которого наступили.
Он не вызвал у меня жалости, я знал, сколько причинил он людям зла своим сребролюбием. Я был солидарен со змеей.
Нет, я не остался в стороне от великого события. Неистовство земных и небесных сил, могучее смешение красок и форм, безумная радость спасенного и отчаяние наказуемого заражали меня своим буйством, и, чем больше я видел тех, кого карали, и тех, кому разрешалось свободно проходить в сопровождении ангелов, тем быстрее моя необузданность сменялась энтузиазмом, ибо терпевшие муки были никчемными людишками, мерзавцами, лентяями, к которым я испытывал отвращение, а люди, которых я уважал, ни на волос не пострадали. Да, оно было добрым, справедливым долом, это представление, кто бы его ни предрекал.
Даже здесь мне стало невмочь; словно подхваченный вихрем, я сбежал вниз по лестнице, выскочил на улицу и оглянуться не успел, как очутился в гуще событий.
Никто не приближался ко мне, никто не трогал меня, разве что задевали иногда в давке, никто не следил за мной. Лишь старый черт с безобразной козлиной бородкой и множеством украшений посмотрел на меня недоверчиво. Чтобы полностью рассеять его сомнения, я быстро дал пинка первому попавшемуся грешнику. Им оказался господин Хомбринк, клеветник и старый брюзга, которого теперь вели на цепочке, прикрепленной к его языку. Обо мне он тоже говорил гадости, когда был еще без цепочки на языке.
Я счел это удачной находкой и иногда давал пинок или затрещину несчастному, случившемуся рядом, или оплевывал его, как, по моим наблюдениям, часто делали черти.
Возле табачной фабрики Спаньера я увидел затоптанный ногами блестящий предмет — кинжал. Я протолкался туда, сделал вид, что сам его уронил, и поднял его. Рукоятка была перламутровой, а лезвие с обеих сторон украшено изящным орнаментом — словом, не кинжал, а произведение искусства. Теперь я мимоходом мог колоть или царапать людей, совсем как неземное существо.
Вместе с основным потоком я попал на площадь Схилд, в центральную часть Рейссена, образованную церковью и ратушей, гостиницей «Корона», гостиницей «Ширмочка» и кафе Кундеринка, — с давних пор это место было средоточием всех городских событий, вот и теперь последнее событие завершалось тут кульминацией и развязкой.
Как мутная жидкость после долгого кипения в колбе распадается на чистый продукт перегонки и осадок (чистый продукт поднимается вверх, муть темной инертной массой оседает на дно), так разделялись и рейссенцы. В середине площади начинались два пути, уводящие с Земли. Один шел к югу и был широкой дорогой из прочного полотна, он поднимался вверх сначала над улицей Элсенер, затем все выше и выше, оставаясь видимым до уровня облаков, и исчезал в синеве за огромными воротами. Другой путь был туннелем, ведущим на север, под улицу Бомкамп, до углового дома на улице Кронеян, из которого кверху поднимался спертый подземный воздух; в конце туннеля за плотной тьмой можно было заметить колеблющееся пламя.
На ступеньках ратуши я не спеша огляделся. Дорога на небо раскачивалась под ногами праведников. Она была перегружена, помилование получили процентов шестьдесят. Из детей не погиб никто, большими группами они семенили наверх, громко болтая, под охраной ангелов, следивших, чтобы дети не подходили близко к краю, и образовавших в некоторых местах надежную изгородь из крыльев.
Можно было бы ожидать, что на этой границе между людьми, навеки покидающими друг друга, разыграются душераздирающие сцены, что некоторые начнут судорожно обниматься, а чертям, с одной стороны, и ангелам, с другой, придется их растаскивать. Ничего подобного. И праведники, и грешники были, вероятно, в душе рады навсегда расстаться. Исключением стали лишь двое подвыпивших: они долго жали друг другу руки и клялись в вечной дружбе, прежде чем каждый отправился своей дорогой, один в сопровождении двух ангелов, другой, обняв за шею шагавшую вертикально исполинскую гусеницу.
Большинство людей были мне знакомы, иногда я с трудом сдерживался, чтобы не пожелать им вслух удачи. Многие никак не могли поверить, что сподобились вечного блаженства, они никогда не думали, что все будет так хорошо. Группа возбужденных юношей и девушек попыталась было плясать на пути к небу, и ангелам пришлось унять их пыл. Старушки впали в тихое блаженство, некоторые на ходу вязали чулок. Ни одной религии предпочтения как будто бы не оказывалось, здесь были представлены все вероисповедания, в том числе и евреи, я приметил даже одного из китайцев, торговавших в Рейссене арахисом: бодро шагая вверх со своим лотком, он без устали расхваливал арахис (находились и покупатели); по причине китайского воспитания смысла событий он не понимал.