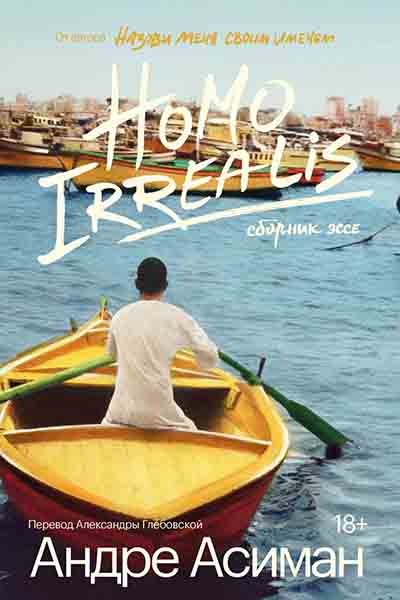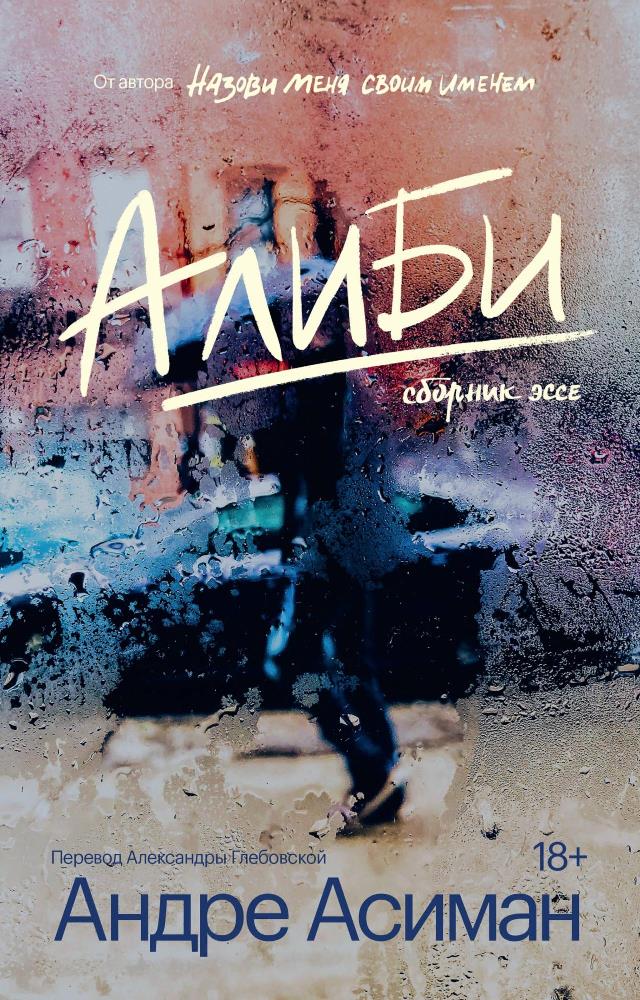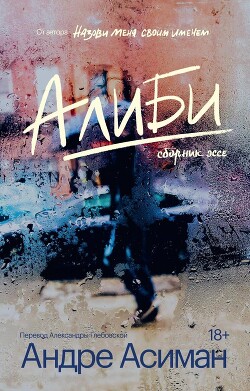напоминают мне о чем-то, что как-то связано с моей собственной жизнью, но я понимаю их каденцию лишь потому, что каждый из трех глаголов так аккуратно внедряется в предыдущий — так, что мне начинает казаться, будто эти строки написал я сам.
Я в энный раз смотрю на плакат со стихотворением и начинаю думать, что, пожалуй, то, что я написал про это стихотворение, не вполне закончено, не будет закончено никогда, поскольку смысл, который, как мне казалось, я вчера ухватил, сегодня куда-то спрятался, да и не может он быть верным смыслом, хотя одновременно я подозреваю, что он может через несколько дней всплыть снова и оказаться верным, и эта цепочка событий не безотносительна к самому стихотворению, потому что в смысле стихотворения нет ничего определенного, потому что подлинный его смысл сам по себе является гадательным, он пока не всплыл на поверхность, но то, что он пока не всплыл, не делает его нереальным, он еще может всплыть, и очень скоро, хотя есть у меня подозрения, что всплыл он при первом прочтении, а потом скрылся навсегда.
Этим летом я опять оказался в Риме. Оказался потому, что мне сказали: не исключено, что мне все-таки удастся попасть на виллу Торлония, некогда известную как вилла Альбани, и есть надежда, что я своими глазами увижу статую Аполлона Сауроктона, Аполлона истребителя ящериц, изваянную легендарным афинским скульптором IV века Праксителем, — причем оригинал. Мне не впервые приезжать в Италию в смутной надежде увидеть эту статую. Пока все попытки проваливались, отсюда мой сдержанный скептицизм. Торлония никогда не любили показывать чужим свою виллу, а уж тем более свои ценнейшие антики, иные из которых попали на виллу благодаря ловкой руке секретаря кардинала Альбани Иоганна-Иоахима Винкельмана, ученого, археолога и отца современной истории искусств, родившегося в 1717-м и убитого в 1768-м. Это третья поездка в Рим с целью увидеть статую, и я сильно опасаюсь, что и она окажется безрезультатной. Мне вспоминается Фрейд, который при каждом визите в Рим обязательно ставил себе задачу увидеть «Моисея» Микеланджело — и ни разу не потерпел неудачи.
Порой мне нравится думать, что в Риме я передвигаюсь по следам Фрейда: отель «Эдем», музеи Ватикана, Пинчо, Сан-Пьетро-ин-Винколи. Мне по душе налет ученой серьезности, которую придают моим пребываниям в Риме упоминания Фрейда; налет этот как бы прикрывает то, за чем я сюда приехал на самом деле, интерес к городу перестает восприниматься так остро, так тревожно, так первобытно и лично. Посмотрев на Караваджо на Пьяцца-дель-Пополо, я сажусь за столик в кафе «Розати» и заказываю чинотто. В конце концов, ведь именно на этой пьяцце восторженный Гете осознал, что он наконец-то в Риме.
Я в Риме, но я что-то не очень удивлен, да и восторжен не так сильно, как рассчитывал. Может, это лишь окольный способ попросить Рим о том, чтобы он удивил меня чем-нибудь новым, или забытым, или чем-то, что разом включит во мне полное осознание возвращения в город, который я — это я знаю точно — люблю, хотя любовь эта не всегда отыскивается сразу, приходится ее нашаривать, точно старую перчатку в ящике шкафа, где лежат носки. Целый год я жил в предвкушении этого утра в кафе «Розати», зная, что закажу там чинотто, куплю газету и позволю мыслям побродить между Винкельманом, Гете и статуей Аполлона (я продолжаю опасаться, что никогда ее не увижу). Но вместо этого что-то меня удерживает и заставляет подумать о Фрейде, который научился любить Рим и чувствовал себя здесь дома. Я тоже хочу себя так почувствовать. Хочу насладиться моментом, ощутить, что я здесь свой. Но как этого достичь, непонятно. Я даже не уверен, что мне хочется чувствовать себя здесь своим. Что-то мне говорит, что на самом деле я приехал сюда думать про Фрейда, а не про Аполлона Сауроктона, Торлония или Винкельмана. Впрочем, и в этом я не уверен тоже. Может, я здесь потому, что мы с Римом так и не завершили одно деловое предприятие, затеянное еще когда я был подростком. Впрочем, если подумать, Фрейд и к нему имеет определенное отношение.
* * *
Фрейд наконец-то добрался до Рима 2 сентября 1901 года, в возрасте 44 лет. В Италии он успел побывать уже несколько раз и мог бы попасть в Рим и раньше, но его удерживало некое психологическое сопротивление, которое исследователи и биографы называют «римофобией» или «римским неврозом». Фрейд прекрасно сознавал, что от приезда в город, который, судя по всему, сильно занимал его воображение еще в младшей школе, его удерживает некое глубинное вытеснение. В юности Фрейд был прекрасно начитан и, как многие венские школьники, не только отлично знал классику и античную историю, но и очень любил античное искусство. Он знал римские памятники, увлекался археологией и, надо думать, полюбил Рим и Афины задолго до того, как попал в оба эти города. И все же, как известно нам — и как было известно ему самому, — имелось некое препятствие.
Фрейд пытался осмыслить причину своей фобии, но объяснение его грешит крайней поверхностностью. Исследователи и биографы предлагают фрейдистские или псевдофрейдистские интерпретации личности Фрейда: они берут материал из его переписки и из «Толкования сновидений» и пытаются понять, чем же был Рим для сорокачетырехлетнего венского доктора. Теории есть самые разные — от правдоподобных до вымученных и откровенно дурацких. Некоторые считают, что давнюю мечту о посещении Рима Фрейду-де не хотелось воплощать в жизнь потому, что он слишком долго тешился этой мечтой и оберегал ее от соприкосновения с реальностью. Упрощенное не-объяснение. Другие полагают, что от самой мысли о том, сколько наслоений истории и археологии в этом городе, у Фрейда начинали сдавать нервы. Тоже так себе объяснение. Существует и множество других.
Возможно, Фрейд считал себя недостойным того, чтобы посетить идеализированную столицу западной цивилизации. А может, будучи евреем, он сомневался, нужно ли ему устремляться в самое сердце христианской веры, тем более что он обдумывал, но в итоге отверг мысль о крещении. Или, может, он пошел по стопам Гете: предпочитал Древний Рим и совсем не хотел видеть современный мегаполис, который занял бы в голове место прежнего. А может быть, все в Риме было окрашено воспоминаниями о его отце-еврее, чувством своей вины перед еврейством, ощущением, что Рим успел стать для него метафорой того, что приятно чаять, но не достигать. Другу и коллеге Флиссу он