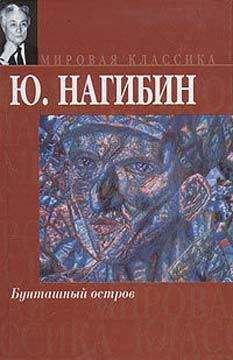В тот день я с раннего утра слонялся по нашему поселку, опустевшему с приходом осени. Было бабье лето — мягкое солнце прочно стояло в голубом высоком небе, клейкие нити паутины реяли в горьковатом воздухе. Но для меня эта благодетельная пора обернулась нарушением дыхания. Так неизменно в последние годы отзываюсь я на стыкование времен года. Противное и мучительное ощущение. Дышишь нормально: глубоко и мерно, а воздух не проходит в грудь, будто в стенку упирается. И ничего тут не поделаешь. Лишь изредка на зевке, на нескольких частых, судорожных вздохах удается вобрать его глубоко — и это такое наслаждение, что память о нем смягчает последующие муки. Врачи уверяют, что это явление нервного порядка — следствие контузии. Когда наступает очередной приступ, я глотаю успокоительное и начинаю мотаться по окрестностям. Порой мне сильно и остро думается о разных важных вещах, я даже что-то сочиняю про себя, но чаще мною владеет жестокая тревога, на грани паники, и тогда избавление — временное — наступает лишь с тяжелой физической усталостью.
В день, о котором идет речь, я исходил наш поселок вдоль и поперек, но, лишь заметив Морелона, поймал какое-то ненадежное, но почти нормальное дыхание. Это не случайно. У меня появилась внешняя цель — избежать встречи с Морелоном, не столкнуться с ним нос к носу, и эта маленькая озабоченность потеснила тревогу здоровья. Я и раньше не раз пытался помочь себе каким-нибудь отвлечением: работой, деловыми звонками, возней на садовом участке, но из этого обычно ничего не получалось. Сознательность намерения препятствовала забытью. Но случайный толчок из постороннего мира, каким явилось видение невзрачной фигуры Морелона, ослабил подчиненность недугу.
Морелон был человек по натуре безобидный, но обладавший способностью запутывать меня в какие-то глупые дела, приводившие к мелким досадным неприятностям. Вообще же он являл собой фигуру весьма типическую для того жизненного пространства, где расположился наш поселок, вернее, несколько поселков, соединившихся территориально и морально, но не административно. Тут обитали люди свободных профессий и ученые, которых называли почему-то «академиками». Таким образом, у нас была академическая сторона, писательская, композиторская и сторона смешанная: киношно-художническая. Народ все пожилой, в рукодельном смысле крайне неумелый и потому растерянный перед лицом природы, которая сохранилась при всей урбанизации здешней жизни и требовала внимания. Впрочем, в писательской части имелся свой Лев Толстой, он копал гряды и даже косил, зарывая нож в глинистую землю. Среди академиков и художников водилось несколько человек, не боявшихся электрических пробок и способных прибить к забору табличку: «В саду злая собака», но остальное население отличалось полной беспомощностью. Естественно, что поселок оброс, как пень грибами, разными умелыми людьми, которые могли «выручить»… По правде, эти люди мало что умели, но брались решительно за все. Когда у нас поселился знаменитый пианист, он смеха ради предложил такому вот «на-все-руки» настроить рояль. Тот как раз чистил выгребную яму — на языке нашего поселка, «убирал последствия». «Можно, — глуховато, поскольку из смрадной глубины, отозвался настройщик. — Три куска». Главное — ошеломить ценой. Спор возникал вокруг оплаты, а неподготовленность мастера выяснялась уже в процессе работы. О возвращении аванса, давно пропитого, речи не заводили, время было безвозвратно утеряно, И заказчику не оставалось ничего другого, как терпеливо ждать, пока честный труженик не обучится на своих ошибках. И ведь обучались, да еще как! Редкостно талантлив наш народ. Один освоил тонкое искусство печной кладки, едва не уморив целую семью угаром своего первого камина; другой стал отличным столяром, которому по силам сложные реставрационные работы; третий — строителем, берет подряды на гаражи, сараи, времянки и даже дачи; четвертый поступил в ателье по ремонту телевизоров. Но таких, как этот телевизионщик, — единицы: большинство, даже освоив хорошие профессии, остались при поселке на птичьих правах. Шальная копейка счета не любит, никто из этих даровитых людей не нажил палат каменных, на сквозном ветру безбытности досыпают свою жизнь.
Морелон принадлежал к тем немногим, что ничего не умели и ничему не научились. Маленький, хлипкий и невыносливый, он не любил потной работы и тяготел к коммерции: торговля и торговое посредничество. Он сроду не мог достать того, о чем его просили, ничуть не тяготясь этим обстоятельством. Если ему заказывали огуречную рассаду, он приносил валенки; если был нужен скворечник, Морелон притаскивал хомут или лестницу-стремянку, но он мог и скворечник доставить, если попросить о сушеной черноплодной рябине. И далеко не всегда Морелону давали от ворот поворот. То ли люди не знают своих действительных надобностей, то ли соблазнительный вид нежданного предмета пробуждал желание его иметь…
Мне особенно не везло с Морелоном. Помню, он долго морочил мне голову каким-то флюгером. Утомленный его настойчивостью, я дал задаток. Через год Морелон принес не то жестяного петуха, не то коня, и тут выяснилось, что это наш старый ржавый флюгер, давно выброшенный на помойку. Другой раз он явился с белой деревянной лопатой скидывать снег с крыши. Жене он дал понять, что договорился со мной, а мне — что его пригласила моя жена. Первым же молодецким кидком он вышиб цельное стекло террасы, которое я с величайшим трудом раздобыл в Таллине. Он был так убит своей неловкостью, что мы буквально навязали ему бутылку для успокоения расходившихся нервов. Зато на другую зиму Морелон сам свалился с крыши, забыв привязаться к трубе. До самой весны он каждый день являлся за винной порцией, ибо пользовал себя от ушибов водкой с солью и перцем.
От Морелона в нашем доме — огромные, тяжеленные и негнущиеся валенки-чесанки, часы с кукушкой, которая никогда не показывается, щекастый золотой ангел, выломанный из царских врат, чадная керосиновая лампа и ужасная крысоловка, которую прищемленная крыса уволокла под пол и вот уже годы пугает наш сон чудовищным грохотом.
И у этого никчемного человека нашелся в нашем поселке почитатель, да еще какой — Классик! Испытывая время от времени приступы звериной тоски и не умея пить в одиночестве, Великий писатель посылал за Морелоном. Тот немедленно являлся на зов друга. Ничто не могло остановить Морелона, он бросал работу, откладывал любимое дело, жертвовал заработком, ставил на карту свою репутацию, которой весьма дорожил, ничуть не подозревая о низкой ее котировке. Хвастун и враль, Морелон был на редкость сдержан и щепетилен во всем, что касалось его отношений с Писателем, обнаруживая тем самым несомненную тонкость души.
Писателю Морелон обязан своим прозвищем. Новым прозвищем, ибо долгое время его звали в поселке Жених. Он и был женихом всех без исключения окрестных красавиц. Морелон не просто хотел жениться, что-то маниакальное проглядывало в его одержимости брачной идеей. Но осуществил он свою мечту в иных, далеких краях, куда не доплескивались волны его сомнительной славы. Пропадал Морелон около года, а вернулся уже женатым, прибавившим тела, посолидневшим, в кирзовых сапогах на толстой подметке, чистом черном ватнике и с бритой головой. Он был похож не то на солдата после дембиля, не то на амнистированного, но почему-то ему это шло, он словно перестал растекаться и застыл в четкой, определенной форме. Первый визит бывший Жених нанес Писателю, тогда уже безнадежно дряхлому, и покинул его, толкая перед собой велосипед. Писатель, любивший одинокие лесные велосипедные прогулки, знал, что ему больше не ездить, и подарил своего худого металлического конька пешему приятелю. И сразу вместо устаревшего прозвища Жених родилось новое: Морелон — в честь всемирного героя велодрома, чемпиона чемпионов, непревзойденного французского спринтера. Прозвище присохло, как голубиный помет к гипсу белых статуй.
Велосипед Писателя, человека рослого, был велик Морелону; даже предельно опустив седло, он не доставал ногами до педалей. Тогда он вовсе снял седло и положил на раму плоскую подушку. Теперь он мог ездить, переваливаясь по-утиному из стороны в сторону, как ездят дети на взрослых велосипедах. Конечно, так много не наездишь, и Морелон предпочитал с важным видом толкать велосипед перед собой или вести его за муфлоньи рога круто выгнутого руля. К багажнику обычно была приторочена какая-то поклажа, ибо Морелон не оставил коммерческой деятельности, хотя и устроился куда-то на полставки. Этой «полставкой» он гордился, словно каким-то отличием, а может, видел в ней гарантию относительной свободы, позволяющей ему по-прежнему располагать своим временем. С тех пор никто не видел Морелона без велосипеда. Он таскался с машиной и в дождь, и в весеннюю распутицу, и в непролазную осеннюю грязь, и в крещенский мороз и снег, бесконечно обременяя себе жизнь, но выгадывал что-то куда более значительное. Это стало ясно, когда один из «академиков» предложил Морелону за его громадину прекрасный польский подростковый недомерок.