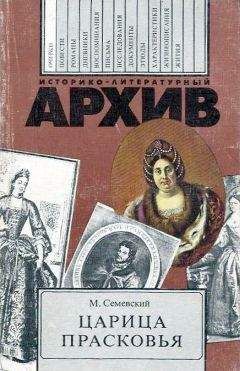Темные воды ночи текут по земле. Заливают леса, перелески, гасят огни. Тягостная тишина разливается по округе. Лежит Чугунок на лавке и не может заснуть. Ворочается с боку на бок, вздыхает. Вот уж третья ночь. Первую ночь не заметила жена его бессонницы. На вторую ночь подойти не решилась. Мало ли, о чем мужик думает? — чего мешаться. А на третью ночь и забеспокоилась: лежит, прислушивается. Шелестят в щелях тараканы, как сухой лист, свистят в носы простуженные ребятишки. Трое маленьких спят на печке, двое побольше — на полатях. А девка-невеста — на кровати, под пологом. С краюшка на печке, чтоб маленькие не свалились, — сама Прасковья спит. За ее спиной все ребятишки — которые уже после революции родились: Тамарочка, Людмилочка, Евгений. Имена новые, красивые — сами придумывали. Не то, что поп по календарю давал. Вон они на кровати спят: один — Сидор, другой еще хуже — Парфен. Да и старшая-то девка — Грушка, Аграфена. Ну, она себя так называть не велит: Маргаритой все подруги зовут.
Лежит Прасковья и всех детей чует. Каждого по дыханию различает — так спокойно, так хорошо. И заснуть бы, да старик не спит. Как бы тоска какая не кинулась! Так и хочет слезть с печи да подойти, а боязно. Уж совсем было ногу спустила на приступку — заворочался старик, отдернула и вдруг слышит:
— Прась, а, Прася!
Прислушалась: он зовет.
— Поди-ка сюда.
— Ты что, мужик? Ты что, родимый, не спишь?
Подошла, присела в головах.
— Оробел я совсем. Дело-то какое. Пропадать ведь нам!
— Что ты, господь с тобой!
— Не в нынешнем, так в энтом году. Как мышей гасом затравят. Намедни газету читали. Летают, говорят, поверху и оттуда пущают. Саранчу душут. Как же, знаем, на людей примеривают. Никишка Салин так и сказал. Будто в шутку, а я все понял.
У Прасковьи забилось сердце.
— Нас-то за что? — робко возразила она.
— Тише ты, кабы ребята не проснулись. Напугаются. Ну вот, слушай. Никогда бы я сам не поверил, что нас затравят, — кабы в коммуну не сходил. Тут меня и осенило. Поглядел я у них опыты. И выходит по моему расчету такая канцелярия: у нас во всем селе хлеб самый урожай — это восемьдесят пудов, а в среднем — пятьдесят, у них получается триста. Я-то засею шесть десятин, они — одну. Все-то село засеет шестьсот десятин, а им надо сто — и сравняются. И кто же, выходит, государству хлеба больше даст? Они. Мы-то сами его половину поедим, а они много ль израсходуют? Вот и выходит: для чего мы государству? Одно с нами беспокойство. Как возьмут силу эти коммуны — дадут полный продукт, а это фактически. И коровы у них в три раза против нашей, и свиньи, и мед. Тут тебе прилетит к нам он по воздуху и напущает гасу. Спим вот так, а гас-то по селу идет. Утром хвать, — а от нас черные головешки. Истлеем! И хоронить не надо.
Дрожащие руки Прасковьи вцепились в плечи мужа, хотела слово сказать — и не могла. Представились ей все детишки обуглившимися. Лежит Евгений, и личико головешкой потрескалось. Лежит Груня — и какая из нее невеста: зубы во рту, как угли в печи, рассыпались. Сама черная.
И разбудил деревню собачий лай кликуши.
* * *
Рожь поспела.
Она стояла, склонив тяжелый колос головы, потупившись — невеста перед сватьями. Она слишком созрела, ей стыдно своей полноты, и вот вот она не выдержит, и круглые слезы просыплет на землю. Переползая через пушистые колена, все выше и выше ползет жук. Она беспомощна. Загорелые ребята смотрят на нее в упор, улыбаясь. Улыбки их радостны и нахальны.
— А ну, дед, щупай, — говорят они вслух.
Рыжий, приземистый, подходит вплотную. Глаза его плотоядны. Он опустился на корточки и провел рукой с самого низу, по коленцам.
— Ах ты, красавица, кустистая какая… гладкая… как верба!
Вдруг он уцепил ее за шею влажной рукой, и тяжелые, теплые слезы ее упали зерном на рыжую ладонь. Не довольствуясь этим, он вдруг смял хрупкую ость ее ресниц и растер между ладонями. Затем он нагнулся к ладони и дунул, — пушистые остья взлетели и молью запутались в его бороде. Тогда он уткнулся усами в ладонь и стал жевать, громко чавкая.
— Поспела, — сказал он. — Жните, не то осыпется.
И первый серп прошел по хрупким стеблям звонко, как по струнам. Горсть к горсти клали осторожно, чтобы не осыпать. Из двух горстей скрутили свясла, перепоясали охапку, надавили коленом, и первый ладный и бравый сноп стал с краю поля. К нему прислонили еще два и в образовавшуюся тень поставили поставку кваса с намоченными корками черного хлеба.
Поминутно сверкая звонкими радугами серпов, они удалялись все дальше и дальше. И вслед за ними на колкой жатве становились парадом туго подпоясанные снопы. В полдень трое парней и трое девушек, уткнувшись головами в тень трех снопов, сперва съели квасную тюрю, затем уснули.
На их руках сквозь золото пыли проступали мельчайшие капельки крови от уколов жесткой жнивы.
Опытное поле выжинали с особенной осторожностью. Подложили под снопы торпище, на нем и молотили не цепами, а вальками — каждое зерно на учете.
Забежал в коммуну Чугунок, пришел Никишка Салин. Мерили полные меры. И получилось — со ста квадратных сажен тринадцать мер ржи. Никишка держал ее на ладони. Рожь была полная, тяжелая, как из бронзы.
— Пудов десять в мере будет. Семнадцать пудов со ста сажен.
— Четыреста бы с десятинки! — вскрикнул бледный Чугунок.
— Семена драгоценные, втрое крупнее обыкновенных. Вы, ребятки, не продавайте. Поменяйте-ка мне! Я вам за пуд два пуда дам. Пятнадцать пудов отдайте — тридцать получите. Я для вас не пожалею.
Алексей глядел на зерно, насыпанное пирамидкой, и плечи его распрямлялись. С них сходили мозоли, натертые коромыслом, на котором таскал он полные ведра навозной жижи. Все улыбались навстречу дню, ветерку, несущему запах спелой ржи, навстречу Никишке, с его заманчивым предложением.
— Это дело, — сказал Никишка, — на пятнадцать лишних пудов мы телку годовалую купим, а добавить еще пятнадцать — там третья корова. Кабы ты не смеялся…
— Что ты, какой здесь смех! Такое дело — я сейчас парня с возом пошлю.
— Погоди, — Ферапонт обернулся ко всем. — Ведь мы посоветуемся?
— Погоди, дядя Никифор, посоветуемся, — ответили девчата.
— Вот глупые! Дети вы еще у меня. Своей выгоды не понимаете. Советуйтесь, конечно. А уж я вам тридцать-то пудов в торпище насыплю. Завтра утречком сам привезу. У вас два пуда на семена останется. Ведь вы ж по зернышку сажаете. Два пуда вам на десятину. Больше вы и не управитесь посадить.
— Третья корова, — прищелкнул языком Никишка. — Это, братцы, третья корова.
Никифор и Чугунок ушли. Шли и разговаривали.
— А что, Никифор Никифорыч, могут они обработать весь клин нашей земли?
— Одни — нет. А ты бабу с ребятней на сколько дней мне работать даешь? Дня на четыре, кажись? Я тебе лошадей-то на два дня давал?
— На два. Четыре дня по справедливости. Отработают. А что, Никифор Никифорыч, ежели им машины? Пожалуй, весь клин-то и обработают?
— Нет таких машин, чтоб этим способом рожь сажать… на десятину здесь ден двадцать бабьих нужно. Машины эти — опахать да убрать… весь клин пять-шесть машин могут. А ты не знаешь, Семка землю опять сдает? Лошадь покупать не собирается?
— Нет, где ему! Опять до вас качнется. А что, Никифор Никифорыч, могут они подобрать себе в коммуну молодежь, которая поспособней, да и оттяпать у нас землю-то? А нам вон кустари отвести? Чего мы с ними сделаем?
— Очень просто. А ты не знаешь, у вдовой, у Парахи, обе девки дома? На заработки не ушли?
— Кажись, дома.
Так они разговаривали. Каждый думал по-своему.
Никишка обдумывал засадку трех десятин коммунскими семенами и набирал шестьдесят бабьих дней.
Чугунок проверял — возможно ли обойтись без него и без мужиков в обработке земли? Скоро ли спалят гасом или пустят какую бациллу? В голове его тяжело, как камни, ворочались мысли: «Как спастись? Может, хоть ребят в коммуну пристроить. Анютка там своя. А уж старикам-то все равно».
* * *
Хозяйственный успех маленькой коммуны был полный. Рожь стояла в мешках, занимая целую комнату дома. Кроме опытных семян, три десятины засева дали двести сорок пудов. Овес стоял полный и ровный. Две десятины его обещали не меньше полутораста пудов. Десятина свеклы краснела, как заря, стога клевера давно стояли в поле. Не двух, а десяток коров можно было прокормить зиму. Каждый опыт удался. И горох, и вика, и ячмень — все обещали свою лепту в хозяйство.
После уборки ржи выдалось несколько дней свободных, и ребята поехали сдать излишки, которые они обещали сдать государству в общественном сходе. Чтоб показать пример — пятидесяти пудов не жалко.
Приехали на станцию, встали на весы.
— Кто сдает? — спросил приемщик, кудрявый, огненно-рыжий, весь в кожаном.