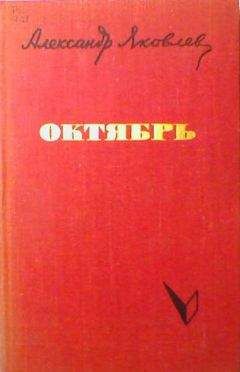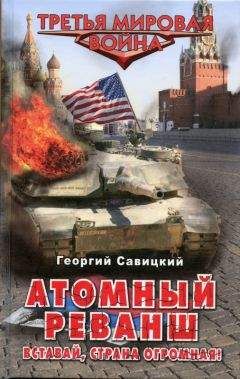Было совсем пасмурно, когда мать разбудила Василия. Она наклонилась над сыном, потеребила его за плечи и резко, задыхаясь от волнения, сказала:
— Вставай скорее! Стреляют!
Василий испуганно поднялся и сел на кровати.
— Что такое?
— Стреляют, говорю; большевики стреляют…
Мать стояла у кровати, одетая в теплую жакетку, с серым платком на голове. В руках у нее была пустая плетеная корзина, та самая, с которой она всегда ходила на базар.
— Ну, что ты смотришь как баран на новые ворота? Не узнал, что ли? Ванька-то не ночевал нынче. Как бы не попал в беду. Ах ты господи!
Лицо у матери вдруг сморщилось и задрожало, словно она собиралась заплакать. Но удержалась и опять заговорила резко и ворчливо:
— Черти проклятые! Ревалюцанеры тоже. Согнали царя, а теперь сами себя начали бить. Друг дружке башку сшибают. Всех бы вас поганым кнутом постегать. Нынче и хлеба-то не дали. Вот пошла и ничего не принесла.
И старуха сердито протянула к лицу сына пустую корзину.
Василий сразу очнулся.
— Стреляют? Значит, началось? — тревожно спросил он.
— Да уж тебе лучше знать, началось у вас или нет, — ответила мать, резко сдергивая с головы серый платок и швыряя его в угол на зеленый сундук, — ваша компания-то действует…
— Та-ак! — протянул Василий и быстро, в один прием, оделся и накинул пальто на плечи.
— Ты еще куда, дурья голова? — забеспокоилась мать. — Один не ночевал, и ты собираешься улизнуть? Хороши сынки… Куда ты?
Но Василий не ответил и, как был — неумытый, нечесаный, с сонным туманном в голове, — быстро вышел на улицу, к воротам.
День начинал сумрачный, с небом, плотно закутанным дымчатыми облаками. На улице, у ворот, стоял сапожник Лобырь, по прозванию «Ясы-Басы», живший в квартире рядом с той, в которой жили Петряевы. У соседних домов стояли кучки народа, а на углах чернели толпы.
— Ну, Василий Назарыч, заварили большевички кашу, — угрюмо усмехаясь, встретил Ясы-Басы Василия. — Слышите, как попыхивает?
Василий прислушался. Из города неслись выстрелы, то близкие, четкие и громкие, будто стреляли рядом на соседних кварталах, то далекие и слабые.
— Это что же, из винтовок? — спросил он.
Ясы-Басы кивнул головой.
— Из винтовок. В самую полночь начали. Так бьются, аж кровь ручьем льет. Убитых видимо-невидимо. Беда ведь пришла, Василий Назарыч.
Длинный, как верста, сутулый — согнутый работой, — с темными усами почти до плеч, в старой синей поддевке ниже колен, Ясы-Басы был похож на кривую, уродливую плаху, поставленную на две ноги. Когда с ним говорили — знакомые или незнакомые, — всегда посмеивались: смешной он, Ясы-Басы. И сам смеется, и других смешит. Но теперь было не до смеха.
— А, Василий Назарыч? Ведь это что же? Это же брат на брата пошел.
Василий жадно слушал далекую стрельбу и ничего не ответил.
Стрельба велась беспрерывно. Город, спрятанный в тумане и в сумерках наступающего утра, был полон новых, грозных звуков.
Тррах…тах…ах… — гремело за далекими домами.
— Вот так зашумела Москва-матушка! Бывало, только жужжала да выла, а теперь громом загремела, будто Илья-пророк по Тверской катается, — говорил тихонько и грустно Ясы-Басы, посматривая вдоль переулка, через крыши далеких темных домов, туда, к Москве. — Хорошо, что мы на Пресне, а то теперь как раз бы в переплет попали.
По улице — по мостовой, а не по тротуару — быстро прошел знакомый Василия — Леонтий Рыжов, молотобоец от Бореля, злой, задорный и глупый мужик.
— Что же вы стоите-то? У заставы винтовки раздают. Айда юнкерей бить, — на ходу крикнул он сапожнику и Василию и, подпрыгивая и размахивая для скорости руками, как крыльями, скрылся за углом, за черной молчаливой толпой.
— Вот тоже воитель! — сердито проворчал Ясы-Басы ему вслед. — «Юнкерей бить»… Морда!.. Понимает ли он, что к чему? Тут умные люди не разберутся, а он тоже суется.
У Василия завозилось под ложечкой злое чувство: ясно, что призывы большевиков на последних бурных митингах нашли в толпе отклик, если даже пьяница и дурак Леонтий Рыжов побежал за винтовкой.
«Ну что же, поборемся», — задорно подумал он, невольно выпрямляясь, и со смехом, уже вслух сказал, обращаясь к сапожнику:
— Ну, Кузьма Василич, идемте же!
— Куда? — изумился Ясы-Басы.
— А туда, с большевиками биться, — махнул рукой Василий в сторону города.
Сапожник посмотрел на него с удивлением.
— Что вы?.. Куда уж мне?.. Да и потом… и вам бы… ходить-то не надо.
— Это почему же? — нахмурился Василий.
— Дело-то больно серьезное. Убить могут и все такое. А главное… — Ясы-Басы запнулся, посмотрел себе под ноги и нервно потеребил усы.
— Что главное?
— Главное, правды-то настоящей… ведь никто не знает. Послушал я митинги ваши… У всех есть правда, и ни у кого ее нет… А где она, настоящая-то? Как же я пойду стрелять в живого человека, если я не знаю настоящей правды? Вы про это подумали? — Сапожник пристально посмотрел прямо в глаза Василию. — Вот пойдете биться… А может, вы против правды пойдете?
— Э, вы все про старое. Хулиганы вылезли из нор, а вы говорите о правде? Бросьте! — нетерпеливо махнул Василий рукой и быстро пошел от ворот домой.
Для него вопрос о борьбе с большевиками был давно решен. С большевизмом в страну хлынул мутный поток. С ним надо бороться. Какая же еще может быть другая правда?..
Минут пять спустя он, натягивая кожаные перчатки, решительно сбежал с крыльца, уже одетый. За ним из двери выбежала мать.
— Вернись, тебе говорю! Вернись! — кричала она.
Но Василий не ответил, даже не оглянулся и резко хлопнул калиткой.
— Уходите? — спросил его Ясы-Басы, все еще стоявший у ворот.
— Ухожу, — холодно ответил Василий и быстро пошел вниз по переулку, к Зоологическому саду, к городу, откуда неслась стрельба.
Улицы по всей Пресне уже были полны народа. На всех углах, на тротуарах и даже на мостовой чернели толпы. Трамваи не ходили, не видно было ни извозчиков, ни автомобилей, и улицы необычайной тишиной напоминали большой-большой праздник. Лишь из центра города, из-за Кудринской площади, гремели неумолчные глухие выстрелы.
Насторожившаяся толпа стояла тихо, разговаривая вполголоса, и смотрела вдаль испуганными, плохо понимающими глазами, будто люди еще не проснулись от кошмарного сна.
Старушка в черных валенках и серой шубейке крестилась на колокольню церкви, едва видневшуюся в тумане, и громко, нараспев, на весь народ причитала:
— Господи, не отврати лицо свое и помилуй ны… Господи, отврати гнев твой…
Василий быстро, точно за ним гнались, шел к центру.
Ему хотелось самому скорее принять участие в бою; самому бить, крошить тех, кто начал эту безумную бойню. От нетерпения он нервно дрожал и шел решительно, широко махая руками и четко постукивая каблуками, прямой грудью вперед. У него явилась странная боязнь опоздать, и эта боязнь гнала его.
На улице, за Зоологическим садом, он увидел первого раненого; молоденькая розовощекая сестра милосердия везла на извозчике в медицинский институт черноусого рабочего, у которого вся голова была завязана бинтом. Через белую повязку сочилась кровь, а над повязкой торчали вверх длинные волосы, и вся голова рабочего походила на голову папуаса, надевшего парадные украшения из ярко-красных и белых лент. А лицо у рабочего было серое и губы кривились, должно быть, в невыносимом страдании.
На Кудринской площади стало заметно, что к центру идут только ребятишки и молодые рабочие, а навстречу им целыми толпами спешили хорошо одетые женщины и мужчины, тащившие узлы на спине, с детьми на руках. Испуганные и бледные, они бежали, будто спасаясь от погони, прятались за углами, останавливались на момент, отдыхали, потом бежали дальше, к окраинам. Толстая пожилая женщина в барашковой шапке и плюшевом пальто с большими черными пуговицами бежала мелкими, семенящими шажками прямо по мостовой и беспрерывно крестилась.
— Ой, батюшки, господи Исусе… Ой, родимые!.. — приговаривала она по-бабьи — жалостно и беспомощно.
У нее дрожали щеки, а из-под шапки выбивались космы полуседых волос. Высокий мужчина с подстриженными усами нес на спине большой белый узел, а рядом с ним бежала побледневшая от испуга молодая женщина в каракулевом саке, тащившая на руках плачущего ребенка. На углу кто-то из толпы спросил их:
— Ну, что? Как там?
— Все громят. Из квартир выселяют. Нас выселили. Все пропадает, — быстро ответил мужчина, не останавливаясь.
В толпе на углу плакали дети. Их жалобный, беспомощный плач как-то особенно подчеркивал ужас надвигавшейся грозы. У Василия вдруг защекотало в горле и зачесались глаза. Сжимая кулаки, он быстрее шел к центру. Скорей! Скорей!