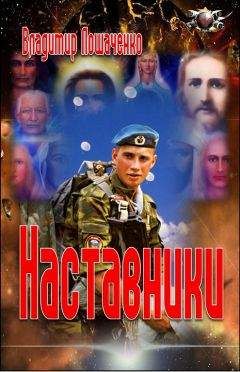Владимир Амлинский. Полтора часа дороги.
Я вошел в автобус. Водителя еще не было, он уплетал в чайной котлеты с рожками. Я посмотрел на себя в зеркальце, висевшее в кабине. «Ну и фигура! — подумал я с сожалением. — Ну и гражданин!»
На меня глядел человек в выцветшей гимнастерке, с биноклем на груди, человек в больших резиновых сапогах-ботфортах... Это был в сущности партизан из очень плохого, состряпанного наспех фильма. И только очки выбивались из общего колорита. Немецкие очки с толстыми перламутровыми заушниками, змеевидной яркой раскраски, с квадратными стеклами, мои добрые, крепкие, пугающие непривычный глаз очки, приобретенные в городе Москве, в аптеке № 1, что на улице 25 Октября...
— Сила! — услышал я голос Сашки-водителя. Он, видно, здорово наелся, губы его жирно блестели, и мне казалось, что от него пахнет рожками и котлетой рубленой «особая». Непонятно, к чему относилось это «сила»: к моему партизанскому виду или к очкам?
Сашка любил подтрунивать над своими обычными пассажирами, но меня он до сих пор не трогал... Надо было, наверное, одернуть Сашку, но я промолчал. Я мог ему, конечно, сказать: «Прожуй сначала, потом выскажешься», или «Вытри губы — тебя вызовут», или в стиле начальника нашей партии: «У вас макарона из ноздри высовывается». Но все это было грубо и ни к чему. К тому же я так и не научился ставить людей на положенное им место...
Я любил эти субботние рейсы в Аркалык, предвкушение воскресного дня, предвыходной короткий вечер. Он быстро таял, и степь становилась голубой и далекой, потому что вечер переходил в ночь.
Утром я буду блуждать по городу, рассматривать афишу заезжего театра, глядеть на новорожденные, еще слепые, с пустыми окнами-глазницами домики. И наконец дождусь момента, когда самолет привезет газеты, и куплю все, даже «Медицинский работник». Ох, хороша жизнь все-таки! И всю эту свежую кипу, вкусно и интригующе пахнущую типографской краской, я потащу в гостиницу и не буду читать по дороге — халтурить, а приду, лягу на диванчик, разложу газеты и начну читать с самой неинтересной и кончу «Комсомолкой». А потом придет вечер, и кончится воскресенье, и в понедельник я забуду о том, что оно было...
— А ну, давай залазь, — командовал Сашка. — Сейчас отправлять будем машину.
Кряхтя, влезали на подножку женщины, собравшиеся, видно, на городской рынок. Серые холщовые мешки колыхались на их спинах. Входили ребята и девушки-дорожницы. Вошел рослый румяный старик. Я его часто встречал на этой дороге. Он обычно ездил по субботам в Аркалык. Нацелились на удобное место в серединке бухгалтеры из строительного треста. Все это была знакомая, привычная публика, субботние пассажиры рейсового автобуса. Странно, что я ни с кем из них не был знаком, не разговаривал, хотя привык к их лицам, знал темы их автобусных бесед и места, где они будут сходить. И Сашка-водитель знал их всех наперечет и отрывал билеты, не глядя, не спрашивая: «Куда?», а они давали ему заранее приготовленные рубли, не задавая вопроса: «Сколько?»
Скрипели сиденья, звякали бидоны, румяный старик достал половинку арбуза, тщательно завернутую в белую тряпочку, словно пасхальный пирог. Потом он вытащил из кармана алюминиевую тусклую ложку, аккуратно ее вытер и стал есть арбуз ложкой, выхватывая самые лакомые, красные, невесомые, пышные куски мякоти. Я ощутил на зубах холодноватый, свежий вкус арбуза и подумал, что отличнейшим образом мог купить арбуз на дорогу. Но я почему-то стеснялся есть в автобусе и поэтому всегда с особенной остротой завидовал дорожным едокам. Надо будет покончить со всеми этими дурацкими условностями!..
— Ну, все население собралось, — сказал Сашка и по-хозяйски оглядел нас всех.
Машина гуднула два раза. Сашка словно хотел сказать этими гудками, мол, все. Не хотите, как хотите. Я больше не жду. И автобус покатился по узкой, чуть присохшей обработанной грейдером дороге.
Сразу как-то потемнело в машине: пошел высокий кустарник, дымчатый березнячок. И начались приглушенные автобусные беспорядочные разговоры, которые я любил слушать. Но мы еще не сумели войти в ритм езды, привыкнуть к ощущению летящей дороги, к мерной и пока еще терпимой тряске, как вдруг Сашка остановил автобус. Кто-то «голосовал». Это было неожиданно: Сашка никогда не останавливал машину на «голосование». Это было не в его правилах. И вдруг остановил... На ходу со скрежетом открылась дверца, и вошла женщина в светлом пыльнике. Лица ее я не разглядел в темноте... Она с трудом шла по узкому проходу, лавируя между сумками и мешками, и я с забившимся сердцем увидел, как она переступает через мешки, а на фоне толстой грубой материи странным контрастом сверкнули невероятно тонкие капроновые светлые чулки на чуть полноватых стройных ногах. Кто-то из ребят шевельнулся, собираясь уступить ей место. И тут я подумал: надо встать мне. Пусть она сядет на мое место... Но я не успел...
— Дали б барышне сесть, — противным, деланно ханжеским голосом сказал Сашка. — Вот вы, например, сидите... А еще очки надели... И это культура называется!.. — Произносилось это нарочито, точно он пародировал кого-то.
Он обращался ко мне.
«Ну, и гад, ну, и сволочь! — думал я. — Дать ему, что ли, по морде, подлецу!» Самое странное, что, размышляя обо всем этом, я сидел на месте... Вставать после его слов было противно, неловко... He вставать — нельзя. «Надо дать ему по морде», — цепенея от бешенства, думал я, вставая.
— Вы сидите, не беспокойтесь, — говорила мне женщина. — Я постою... Ничего страшного...
Голос доносился ко мне словно сквозьтолстую ватную стену. Спокойный, чуть насмешливый женский голос.
Я встал. Сделал шаг вперед, но натолкнулся на мешок и чуть не упал.
— Черта с два тут выберешься, — сказал я с отчаянием.
— Вам что, уже сходить? — громко и вежливо обратился ко мне Сашка. — Я могу остановить.
Он великолепно знал, что мне до конца. «Чего он привязался ко мне?» — подумал я с сознанием собственного бессилия. Здесь он был хозяином положения. Ему не нравились мои очки. Это я знал. Что-то во мне всегда раздражало его... А сегодня он рисуется перед этой женщиной, и ему нужна жертва. Кто, кроме меня, подходит для этой роли?
И вдруг я успокоился. Я перенес всю злость, обиду и раздражение на себя. Я думал о себе с неприязнью постороннего человека. Так бывало тогда, когда мне становилось плохо... Пора кончать, говорил я себе. Вот уже пять лет я таскаюсь по целине с теодолитом, питаюсь «сухим пайком», сплю в холодных, промокших палатках, наживая себе ревматизм! Все мои друзья пооканчивали институты, сидят за полированными столами, командуют, а я по-прежнему техник-геодезист — деятель со средним техническим образованием. Надо кончать с этим. И будет Москва, и Чистые Пруды, и кинотеатр «Колизей», и асфальт летней улицы. Я буду выходить после сеанса и буду говорить своей приятельнице: «Плохой фильм. Мелодрама. Подделка под итальянцев. В жизни все иначе». И она будет понимающе качать головой. Потому что она будет верить мне. Потому что я-то уж знаю жизнь...
Сашка ведет машину мрачно. Бывают дни, когда он ведет машину отчаянно, весело. Ее шатает, она подпрыгивает. А Сашка свистит. Иногда он ведет ее сдержанно. Он спокоен, идет на средней скорости, объявляет остановки. А сегодня он ведет машину быстро, но без вдохновения, неосторожно, но без веселости. Что-то, видимо, и у него не так...
А что я о нем знаю, о Сашке? Знаю, что приехал он сюда откуда-то с Чукотки... Знаю, что возил начальника СМУ, а потом в чем-то провинился, и его пересадили на рейсовый автобус. Знаю, что он слывет на трассе за нахала, но нахала сильного и отнюдь не глупого. Да, он неглуп и хитер по-своему. И когда он говорил: «А еще в очках», то придурялся. Однажды я встретил его в читальне... Он сидел, ссутулясь, и смотрел куда-то мимо книги потускневшими глазами. Читальню закрывали, и я подошел к знакомой библиотекарше. Мы с ней переглянулись, и я тихо сказал: «Еще один книголюб». Минут через двадцать он ушел. Лицо у него было белое, смятенное, глаза шальные. Может, с перепою, а может, и нет...
— Вам неудобно стоять, сядьте, — услышал я голос женщины.
Я сделал глазами: мол, да что вы! Вообще-то мне было неудобно: одна моя нога стиснута баулами и мешками, другая запирается в чье-то колено. Поручня у автобуса не было, и при каждой колдобине я валился на пассажиров.
— Садитесь же, я подвинусь, — повторила она. Голос у нее был низкий, грудной.
— Если уж вам так хочется... — наигранно лихо сказал я и сел.
Незнакомая, чужая девушка сидела рядом со мной. Машина то набирала скорость, то словно ссекалась, буксовала, и нас крепило в сторону, и мы были так близко, что моя щека касалась ее волос, и я отодвигался, и мне было приятно и неловко. «А почему, собственно, не познакомиться? — думал я. — Она примерно моего возраста. Очевидно, выпускница института, едет на работу... Отчего же не познакомиться?» Но Сашка-водитель выбил меня из колеи, и я словно надел чужие большие башмаки, они болтались, были не по ноге, но я все-таки шел в них. Первая моя фраза: «Если уже вам так хочется» — определила весь разговор. Я выступал в роли бодрого пошляка, пошляка-старожила.