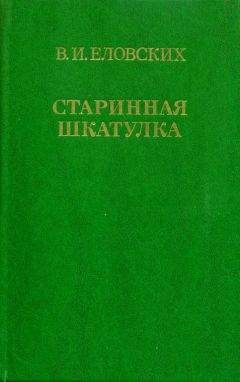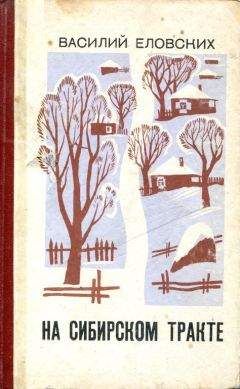© «Советский писатель», 1987.
А все же великое дело — радость. Говорят, от нее даже старики молодеют. Мать Нюрина говаривала когда-то: «Радость прямит, а кручина крючит». Нюра весь день была в состоянии какого-то радостного возбуждения, которое так и перло из нее, и ей хотелось смеяться, улыбаться и болтать, болтать, без конца болтать, как будто десять лет с себя сбросила; она пыталась успокоиться, стать такой же, как всегда, — ровной, безмятежной — и не могла: что ни говори, а эмоции не все время подчиняются нам, часто мы подчиняемся им, уж тут человек не всесилен.
Она проснулась, как и обычно, в начале седьмого и, чувствуя в душе что-то легкое, что-то неосознанно приятное, удивилась: «Отчего? Почему?» И тут же вспомнила: завтра — выходной, можно будет подольше поспать, понежиться в постели, сходить в кино, заглянуть на базар, искупаться в реке. Да мало ли что можно сделать за целый-то день. Вчера была получка — деньжонки есть. Но все это еще не то, не настоящая радость, настоящая пришла позже, уже на работе… А нет ли между ними — ранней и поздней радостями — какой-либо связи, которую Нюра так и не смогла понять? Что же произошло?
Она стояла за прилавком и привычно деловито отвешивала кому что — вермишели, сахару, перловки… Рябов появился вскоре после открытия магазина, здоровый, плечистый, улыбка до ушей.
— Привет, Нюрочка!
— Здравствуйте, Константин Федорович!
— Отвесьте-ка мне, пожалуйста, сахару с килограмм. Люблю, знаете ли, чайком побаловаться. И уж заодно килограмм перловки.
— Интересно, кто вам кашу варит?
— Да сам варю. Кто же будет? Ведь вот вы, к примеру, не придете ко мне кашу варить, правда? Так и другие.
Ей хотелось спросить у него: «А что вы не женитесь?» — уже на языке вертелось, но она постеснялась.
— А гречки нету? — Это проговорил пьяный мужичонка, угрюмый, неряшливо одетый, с осовелым лицом. Видать, крепко наклюкался и пошел людей посмотреть, себя показать.
— Гречки нету, — ответила Нюра и подумала, что мужичок, наверное, начнет сейчас хорохориться и придираться к ней. Такие всегда хорохорятся и придираются.
— А почему нету?
— Откуда же я знаю?
— А колбаса когда будет?
— Не знаю.
— А почему не знаешь?
— Мне же не сообщают об этом.
— Вот гадство! Стоит тут для мебели, елки-палки!
Константин Федорович встал перед мужичком, он был почти вдвое выше его, и, наклонив голову, ласково сказал:
— Пойди-ка лучше домой, дорогуша. Баиньки-бай!
— А тебе-то чо тут надо? Ты-то чо лезешь со своей толстой ряшкой?
— Мне надо, милый, чтоб ты отсюдова убрался.
— А ты, собственно, кто таков?
— Да у меня тут такое дело… полюбовный разговор. Уезжаю — и вот… А при посторонних, сам понимаешь…
— Нашли тоже место, остолопы. Идите домой и милуйтесь тамока.
— Ну, добром прошу. Как друга. Ать-два!.. — Константин Федорович сделал три неторопливых шага, животом и грудью потеснив мужичонку.
И когда тот уплелся, недовольно ворча, Нюра сказала:
— У нас ведь здесь просто. Позвоним в милицию и — все!
— Да с, вами не шибко похорохоришься. Вот хочу кое-что сказать, и аж поджилки трясутся.
— Да хватит уж вам! — заулыбалась Нюра.
— Ну, а если серьезно… Знаешь, я давно уже собираюсь поговорить с тобой. Ты сегодня дома будешь вечером?
Последние фразы он произнес тихо и как-то неуверенно. Впервые сказал ей «ты». Она слегка растерялась и ответила тоже неуверенным, натянутым голосом:
— Буду.
Она стеснялась его и чувствовала себя напряженно. Почему же нет покупателей, они отвлекли бы ее. Все утро шли вереницей, даже очередь была, а сейчас нету.
— У меня седни отгул. И хожу вот, не зная, куда притулиться. Ухайдакаешься за день-то. И хочется посидеть, с кем-то потолковать.
О, слава тебе господи, подошли две старушки. Нюра знала их, славные такие старушки, расторопные, разговорчивые, с такими не заскучаешь. Она уже уверенно и немного игриво взглянула на Константина Федоровича, но тот вдруг прощально закивал и, сказав: «Я приду», торопливо ушел.
И с каждым часом, с каждой минутой в ее душе росла радость, только какая-то необычная — тревожная, с неясным глухим беспокойством; Нюра была возбуждена, много и весело болтала с покупателями, и некоторые из них, наиболее наблюдательные, усмешливо поглядывали на нее, видимо, догадываясь кое о чем. Константин Федорович еще на прошлой неделе сказал ей, тут же вот в магазине, что хочет поговорить о чем-то «важном» для него, и, как показалось Нюре, немножко волновался или стеснялся — не поймешь. Это ничего, что волнуется и стесняется, это даже хорошо, значит, у человека серьезное на уме. Она знает его уже больше двух лет. Хотя как знает: Константин Федорович дружит с ее соседом по квартире Дмитрием, они оба слесарничают на заводе; каждый выходной болтается тут, и хочешь не хочешь, а встретишься, то в коридоре, то на кухне. Помнится, при первой встрече — Нюра тогда жарила пирожки с капустой — он сказал ей:
— Я ведь тоже один-одинешенек. А вот вечерами не скучаю. Поужинаю и весь вечер беседую. С кем? А сам с собой. Сам себе задаю вопросы и сам себе отвечаю. Приятно беседовать с умным человеком.
Это была, в общем-то, старая шутка, но она все равно развеселила Нюру. Потом, встречаясь с ней, он игриво похлопывал ее по спине: «Ты что тут рукосуйничаешь, а?» — расточал шуточки-прибауточки, рассказывал смешные истории и анекдоты, и в его похлопывании, в его голосе она чувствовала ласку, — ведь женщину не обманешь, она понимает, где ласка, а где ее нет. Уже далеко за сорок мужику, а все еще одинок; говорят, пожил с женой когда-то в молодости год ли, два ли и с тех пор холостяга. Женщина холостая — такое встречается, а немолодой холостяк в районном городке — штука редкая. Рябов плоховато, как-то даже показно небрежно одевается: пиджак дорогой, но измятый, будто он на нем и спит, и сидит, сорочка не первой свежести, к тому же верхняя пуговица у нее оторвана, на кирзачах засохшая грязь. Но это исправимо: с ласковой да работящей бабой все быстренько направится, и будет тогда Константин Федорович мужчиной на все сто. Она ясно представила его в ту, женатую пору: большой, чистенький, ладный…
Он, по всему видать, добряк. Не молод, правда, лет на пятнадцать старше ее, а может, и на все двадцать. Ну и что? Оно, может, и лучше. Недаром люди говорят: чем старее, тем правее, чем старее, тем мудрее. Или вот еще: годы не уроды… В глазах у него так и затаился смех, а пухловатые губы по-особому — насмешливо поджаты. Нюра все чаще и чаще думала о нем, вспоминала его широкую улыбку, его походку вразвалочку, его шутки. Проснется утром, и на душе радостно-радостно.
«Костюша!..»
Она ждала встреч с ним, точнее, искала этих встреч: услышав, что он пришел к соседям — голосина у него дай бог, — не хочешь, да услышишь, выбегала на кухню, ставила на плиту чайник или заходила к Дмитрию и Лизе что-нибудь попросить — ну, спичек, чернил или ниток, к примеру, и как-то внезапно вся оживлялась, голос становился фальшиво-веселым, приподнятым (сама чувствовала эту фальшивость), будто не своим становился, и можно было даже подумать, что она того… слегка выпивши. Вечером садилась у телевизора, но уж какой там телевизор, перед глазами были не диктор, не бойкие телевизионные герои, а он, Костюша: опять та же улыбка на пухловатых губах, те же глаза…
Все знакомые, а их у Нюры почти полгорода, любят ее, старые и малые зовут просто Нюрой или Нюркой («Нюрка-продавщица»), говорят, что она и мухи не обидит, со всеми проста и как-то по-особому, по-своему весело вежлива. Так оно, правду говорят. Но вот в последние дни происходит что-то даже ей самой непонятное: стараясь скрыть стеснительность и волнение, она грубит Константину Федоровичу, обрывает его: «Да оставьте меня в покое!», «Да хватит уж вам!» — или изображает из себя обиженную, даже разговаривать не хочет, говоря попросту — дуется и в то же время тянется к нему, бежит туда, где он, прилипает взглядом, ловит его взгляд, прислушивается к его неторопливому голосу, чувствуя, как у самой приятно холодеет сердце. Оборвет, нагрубит, а потом сидит у себя в комнате и страдает. Морщится и страдает. Позавчера на кухне он рассказал ей, как одна подслеповатая старушка вместо своей племянницы поцеловала ее жениха, и Нюра передернула плечом: «Ну, что вы пошлости говорите?» Уж очень хотелось показать ему, что она не терпит пошлостей. А потом, сидя у окошка, долго плакала втихомолку, вспоминая, как он, после этой ее фразы, жалко улыбнулся и опустил голову. Ей казалось, что она не столько влюблена, сколько хочет быть влюбленной, и это хотение — плод ее печального одиночества.