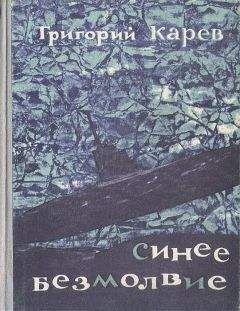Иван Краснобрыжий
АЛЕНКИН КЛАД
Повести
Иван Краснобрыжий принадлежит к числу тех писателей, которых закаляла жизнь. С тринадцати лет автор этой книги, как он говорит, встретился с жизнью на «ты». В пятнадцать лет он работал грузчиком Майкопского мебельного комбината, затем много лет служил на Балтийском флоте. После службы учился в энергетическом училище, в Литературном институте им. А. М. Горького, работал инженером по наладке электрооборудования на московских заводах…
Люди труда, суровых судеб и жарких сердец стали героями рассказов и повестей Ивана Краснобрыжего. Его перу принадлежат произведения «Журавлиная дорога», «Недовольный человек», «Ласточки», «Рожь в крови»…
Тайга под крылом самолета перекатывалась темно-голубыми гривастыми волнами, сверкала верткими речушками, круглыми чашами озер, а когда где-то за Витимом забугрилась ржавыми сопками, сверху похожими на горбы верблюдов, я вспомнил наказ редактора нашей газеты.
— Надо порадовать читателей сочным куском в полосе, — напутствовал меня в дорогу Артем Петрович Шумейкин. — В тайге, куда вы летите, ищет клады Тимофей Елисеевич Криница. Знаете, сколько он богатств отвоевал у природы?.. Неужели ничего не слышали о нем? Стыдно! Совестно, дорогой!
Артем Петрович вяло улыбнулся и, прохаживаясь по кабинету, со вздохом продолжил:
— Да-а-а… В свое время многие журналисты поломали перья о Криницу. Правда, настоящая удача постигла только… — Шумейкин замялся, покраснел. — Одного только и постигла настоящая удача. Вам советую остановиться на хорошем ученике Елисеевича и, так сказать, в духе преемственности… Короче, газете нужен очерк о первом кладе молодого геолога. Хорошо бы найти девушку-москвичку. Тут и пример для столичной молодежи, и втык другим по тематике…
Самолет нырнул в зеленую промоину между сопок и с шумом, похожим на песню осеннего ветра в раздетом лесу, пошел на посадку. На лысом пятачке он, как резвоногий козлик, сделал три мягких прыжка, взвизгнул тормозами и, хлопая винтом, остановился метрах в десяти от стены корабельных сосен.
Не успели мы выйти из «фанерного ангела», нас встретил кряжистый человек лет пятидесяти, в кожаной куртке и в брезентовых брюках, заправленных в широкие голенища яловых сапог. С летчиками он поздоровался тепло, радостно, меня измерил внимательным взглядом и бархатным баском уточнил:
— Корреспондент?
— Прилетел к Тимофею Елисеевичу.
— Чем могу служить?
— Артем Петрович, — начал я с привета от нашего редактора, — желает доброго здоровья…
— И прожужжал вам уши о великом кладоискателе? Должник он мой. Большой должник! Много лет прошло после его очерка, а мои кулаки до сих пор чешутся! — Тимофей Елисеевич на минуту умолк и, насупив смоляные брови, поклялся: — При встрече наломаю бока Шумейкину! Ох, и намну!..
Гнев Елисеевича я попытался смягчить рассуждением о типизации, обобщении, наконец, праве автора в художественном произведении…
Он с какой-то веселой снисходительностью выслушал меня и, приложив руку к сердцу, поблагодарил:
— Спасибо, батенька! Уважил, дорогой! А то мы тут совсем одичали: с медведями в обнимку спим, шилом бреемся, ветром греемся…
Благодарность Тимофея Елисеевича меня дважды вгоняла в пот. Я стоял перед ним, как нашкодивший, школьник у Столика строгого учителя, и помалкивал. Свою признательность за «просвещение» он кончил вопросом:
— А вас какие заботы привели в наши края?
— Меня?.. Я… Я должен написать очерк о первом кладе молодого геолога. Желательно взять героиней девушку-москвичку.
— О первом? — переспросил Криница и сразу предупредил: — Адресом ошиблись, батенька!
По гордо приподнятой голове и хитроватой улыбке Елисеевича я понял: карта моя бита. Возвращение из командировки с «проколом» меня не пугало. Просто не хотелось идти на ковер к Шумейкину, видеть веселенькие глазки редакционной сплетницы и пустоцветки Маи Саблиновской, слушать рокочущий бас старого журналиста Серафимыча.
Он, как правило, новичков-неудачников всегда успокаивает будущим. И получается все это у Серафимыча мило, просто, легко, но немного туманно: «Запомни, старина, у настоящего газетчика нет прошлого, нет сегодняшнего… Он обязан жить только завтрашним днем. Только завтрашним!..»
— Да вы, батенька, совсем скисли! — заметил Криница, когда я сунул в рот сигарету горящим концом. — Неужели, думаете, на моей партии белый свет клином сошелся?
«А Елисеевич, пожалуй, прав, — немного воспрянул я духом. — Поживу здесь недельку-другую, пригляжусь к людям… В нашем деле так: не знаешь, где найдешь, где потеряешь».
Пока я занимался самоутешением, летчики выгрузили приборы в черных сундучках, поколдовали над картой, а когда самолет оторвался от земли и, будоража безмолвную тайгу веселым рокотом, лег курсом на Усть-Кут, Криница предложил мне переодеться в робу и помочь прослушать подозрительную сопочку.
Зеленую сопку, заросшую густой травой от пяток до макушки, мы прослушивали часа три. Я кувалдой забивал в коричневую землю стальные штыри, тянул от приборов к ним провода, зажимал их в клеммы… Тимофей Елисеевич показания приборов вносил в блокнот и, что-то напевая, сиял от радости. Порою он умолкал, долго глядел на дальние сопки, повитые голубой дымкой, потом чертил в красной записной книжице ровные линии, помечал их латинскими буквами и сам себе поддакивал: «Так-так-так…» Я один раз осмелился спросить, какой клад может скрывать зеленая сопка, и сам был не рад. Тимофей Елисеевич, багровея, срывистым голосом подал команду:
— Два штыря у подножья! Два на вершине! Батенька, вы мужчина или барышня? Эх, штыря одним рывком вытащить не можете!..
Я старался до седьмого пота с единой целью: доказать Кринице, что наш брат тоже не лыком шит. Он, не замечая моих усердий, по-прежнему напевал песенку без слов, делал записи в красной книжице и подавал команды: «Два штыря у подножья! Два на вершине! Шевелись! Шевелись, батенька!»
В лагерь с зеленой сопки мы возвращались к обеду. Едва Заметная стежка виляла меж высоких, налитых солнцем сосен, огибала заросшие щетинистыми кустарниками буерки и снова ныряла в тайгу, напоенную сладковатым запахом живицы и хвои. Я, сгибаясь под тяжестью приборов, молча плелся за Тимофеем Елисеевичем. Заводить разговор о первом кладе было бесполезно. Криница на этот вопрос ответил четко: «Адресом ошиблись, батенька!»
Часа через полтора мы вышли на лысый пятачок, где стояли палатки, и — опешили: геологи собирали разбитые приборы, клочья одежды…
— А рация? Что с рацией? — побледнел Криница. — Неужели черти косолапые нас лишили связи?..
— Покорежили ее, как бог черепаху! — резко ответила щупленькая девушка и тут же принялась отчитывать Елисеевича: — Почему лагерь оставили без надзора? Или ваш приказ — закон только для подчиненных, да? Я спрашиваю: почему бросили лагерь без надзора?..
Девушка просклоняла Криницу по всем падежам, поправила на плече ремень карабина и потеплевшим голосом спросила:
— В Брусничный, пожалуй, надо топать?
— Другого выхода нет, — стыдливо потупился Тимофей Елисеевич. — Без связи нам работать нельзя. Мало ли что может случиться? Да и провизию черти косолапые с землей перемешали. Пока ты, Аленка, будешь добираться на главную базу, мы прощупаем третий район. Сроки, сама понимаешь, поджимают.
Аленка пополнила подсумок патронами, топор с круглым обушком заткнула за ремень, перехватывающий брезентовую куртку, поправила за плечами тощенький вещмешок и скрылась за стеной бронзовых сосен.
— Не теряйте момента, — шепнул мне Криница. — Если желаете выполнить задание редакции, советую взять героиней, или, как там у вас, главным персонажем — Аленку. Именно Аленку.
— Она, — спохватился я, — имеет на своем счету клад?
— Самый драгоценный! — загадочно улыбнулся Криница. — И притом москвичка. Берите дробовик — и следом.
Тайга над головой сомкнулась темным мохнатым пологом. Идем час. Второй. Я то и дело проваливаюсь на истлевших колодах, оступаюсь в черные окна с холодной жижей…
Проклятое комарье нещадно пьет мою кровь, какие-то корни, колючие прутья обвиваются вокруг ног, шеи… Мне все время кажется, что они вот-вот выхлестнут глаза, и я защищаю лицо поднятой рукой.
Аленка, наоборот, шагает легко, быстро, поглядывает на меня озорными глазами и чему-то улыбается. Я молча проклинаю путь-дороженьку, но мужского достоинства стараюсь не ронять.
Царапины, ссадины, купанья в черной, как нефть, жиже обогащают меня кое-каким опытом. Я догадываюсь: надо шагать по следам Аленки. Так и делаю. Но увы! Там, где она пташкой перепорхнет с кочки на кочку, с валежника на валежник, я чуть не до пояса увязну в грязи. Там, где Аленка юркнет под старую корягу, я полами куртки цепляюсь за сучья-пики и, опасаясь изодрать в клочья одежду, долго выбираюсь из ловушки.