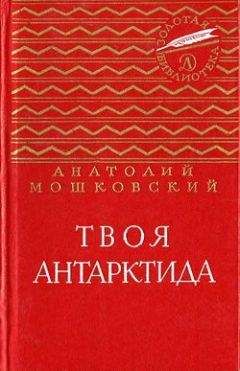Анатолий Мошковский
Твоя Антарктида
Повести и рассказы
Не погаснет, не замерзнет
Мы живем в небольшом районном городке… Но вам ведь все равно, как называется наш городок. Только не обижайтесь на меня, сейчас я все объясню. На окраине городка находится большой завод, на котором и работает мой старший брат Паша. Стеклянные крыши длинных цехов блестят, как парники в совхозе имени Валерия Чкалова, но под стеклянными рамами завода выращиваются не огурцы с помидорами, а кое-что другое.
Паша, приходя с работы, никогда подробно не рассказывал, как проходят испытания последних марок истребителей. Как ни клялся я, что никому, ну никому-никому не скажу, Паша улыбался на это, запускал ручищу в мои волосы и растопыренными пальцами, как гребешком, зачесывал их назад и весело приговаривал:
– Волосы, браток, даны человеку не для того, чтобы торчать в разные стороны…
Вначале, когда я учился в четвертом классе, я обижался на брата: что он мне, не доверяет, что ли? А вот когда перешел в пятый – все понял и перестал дуться.
Так что не обижайтесь, пожалуйста, что не скажу вам, как называется наш городок, зато все остальное расскажу точь-в-точь как было. А если не верите – спросите у Сеньки Марченко, который сидит через парту от меня и умеет здорово шевелить ушами. Его отец дружил с Пашей, работал на одном заводе и может подтвердить все слово в слово.
Кроме мамы и Паши, у меня еще есть младшая сестренка Валя – по-взрослому, значит, Валентина, – но про нее не скажу ни слова – девчонка! Да и что хорошего можно сказать о человеке, который только и знает, что возиться с куклами, визжать при виде крошечного лягушонка на мокрой тропинке в саду, полдня, закусив язык, бессмысленно скакать через веревку? Нет, она не в счет… Не знаю, зачем только родятся эти девчонки! Как будто нам без них плохо.
А вот Паша… Да, Паша – это совсем другой разговор.
Целый день над нашим домиком с ревом и свистом проносятся самолеты – стекла в оконных рамах прыгают и стучат, куры кудахчут, как чумные, вспоминают с перепугу, что они птицы, и, вытянув вперед шеи, перелетают через забор на бреющем полете. А мама выходит на крыльцо, засунув руки под зеленый передник, и говорит, щурясь на ярко-голубое небо:
– Видать, Пашка-сорванец пробует новый аэроплан. Курам снести яичко спокойно не даст!..
Смешная мама! Пашкой-сорванцом она называет не какого-то там пацана с кошачьими царапинами на носу, а летчика-испытателя, храброго человека, а аэропланами – реактивные истребители и скоростные бомбардировщики! В общем, в свое время она училась в церковноприходской школе, и в технике ее, надо сказать, слабо подковали – реактивный от «По-2» отличить не умеет!
Домой Паша приходил голодный, усталый. Первым Делом он быстро стаскивал гимнастерку, и я поливал ему во дворе из синей эмалированной кружки. Паша нагибался, а я поливал и сверху глядел на упругие, твердые бугры мускулов на его плечах и руках, которые тяжело и уверенно двигались под темно-коричневой загорелой кожей, и думал: скорей бы и у меня выросли на руках, груди и животе такие мускулы! А то ведь, если говорить честно, меня боятся тронуть мальчишки с других улиц не потому, что я сильный и смелый или там бицепсы мои не влезают в рукава рубашки, – нет, где там! – а потому, что есть у меня он, брат мой, Паша.
Поливая ему, я представлял, как вот эти большие шершавые ладони ложатся на рычаги боевого самолета и ведут его сквозь облака и дожди, сквозь снег и туманы, а его зоркие синие глаза оглядывают сверху не только наш городок, но и всю нашу большую землю.
Иногда, уходя на аэродром, он шутливо грозил: «Смотри у меня, паршивец, опять залезешь в сад Ивана Кузьмича – с неба увижу, спущусь, руки оборву!»
Но Паша не только ругал меня.
Однажды, когда у нас нечаянно сгорела большая фюзеляжная модель, которую мы мастерили всем звеном целых две недели, и мне так стало жалко ее, что я не смог удержаться от слез, Паша поправил широкий ремень, положил мне на плечо тяжелую руку и сказал:
– Эх, браток, и люди, случается, заживо сгорают, а не ревут…
Мне сразу стало так нехорошо, что я отбросил его руку и убежал из дому. Ведь я твердо решил сделаться летчиком. Летчиком – и больше никем. Недаром же мама сшила мне из старого кожаного реглана Паши курточку, а вместо тряпичной штатской кепки я со второго класса носил настоящий авиационный шлем на мягкой подкладке, который тоже подарил мне Паша.
Мылся Паша не спеша. Он долго тер шею и даже доставал рукой через плечо до лопаток и совсем не боялся, что холодная вода затекает под белую майку и на ней выступают темные пятна. Паша сильно фыркал и смешно крякал, когда мыло попадало ему в глаза, и сердито говорил, чтобы я не жалел воды. Воды… Эх, да знал бы он, что я бы жизни своей не пожалел ради него! Как он не понимал этого!
Паша, Паша… Да, вот это человек!
У меня с ним одна фамилия и отчество, а больше, если по правде говорить, ничего похожего и не было! Вы, может, не верите, думаете, я хвальбишка какой? Эх, вы! Так слушайте: ему, например, ничего не стоило перевезти меня вплавь на своих плечах через реку, за три вечера прочитать тяжелый, как кирпич, том «Клима Самгина», левой рукой три раза выжать громадную дубовую колоду, на которой во дворе рубили дрова. Да и не только это мог он сделать! Вы, конечно, можете сто раз обозвать меня лгунишкой, но он при мне всовывал пальцы в зубастую пасть свирепому псу, по кличке Буян, которого боялась вся улица, и при этом пес добродушно помахивал лохматым хвостом!
Теперь вы поняли, что это был за человек?
А я? Что я? Мне только и оставалось, что поливать ему из кружки и смотреть, как пролетают над домом самолеты. Если мне хотелось, как взрослому, закурить «Ракету», так и тут приходилось, спасаясь от мамы, убегать за угол дома и там курить – торопливо, кашляя и вытирая слезы от скребущего горло едкого дыма… Эх, скорее бы подрасти! А то, пока ты маленький, никто не считается с тобой и каждый попрекает словом «мальчик»:
«Мальчик, курить вредно!»
«Мальчик, до шестнадцати лет на эту картину вход воспрещен!»
«Мальчик, птицы приносят пользу, в них нельзя стрелять!»
«Мальчик, нехорошо цепляться за машины!»
Теплыми летними вечерами мы часто сидели с Пашей на лавочке возле дома, молчали и слушали, как медленно засыпает город. Помню, Паша говорил мне, что я, наверно, доживу до того времени, когда не нужно будет больше строить ни истребителей, ни бомбардировщиков, потому что некого и незачем будет истреблять и бомбардировать, и все люди на земле станут жить в дружбе. И тогда наш завод, наверно, начнет выпускать такие реактивные пассажирские корабли, что на них можно будет из нашего города за полдня без пересадки долететь до Австралии или даже до самой Антарктиды.
– И ты будешь их испытывать? – вскрикнул я, вскакивая с лавочки.
– А ты что думаешь? Может, и буду, – ответил Паша, подпер рукой подбородок и долго-долго слушал, как в теплой вечерней тишине бьют часы.
Бой раздавался с древней церкви. Говорят, лет пятьдесят не звонили колокола этой церкви. А вот большущие часы на высокой башне до сих пор ходят точно и исправно и отбивают каждые пятнадцать минут. Если в небе не гудят самолеты, то с любого конца городка слышен этот бой.
Так вот, в этот вечер услышал Паша бой часов, закинул ногу за ногу, задумался, а потом грустным голосом сказал:
– Не успеешь выкурить папироску – бьют. четверть, не успеешь дойти до аэродрома – бьют, не прочитаешь и двадцати страниц книги – бьют. Бьют и бьют. Вот так, браток, летит время и жизнь. Не успеешь и оглянуться, как набьют они тебе полсотни лет. А что ты сделал за это время? Ничего. А многое можно сделать за пятьдесят лет. Очень многое…
Я ничего не ответил ему тогда, но в душе был глубоко не согласен с ним. Хорошо так говорить, когда тебе уже набило двадцать четыре года, а каково же нам, ребятам? Для всех дел малы! Нет, это, наверно, взрослые нарочно придумали такой несовершенный механизм, чтоб часовые стрелки ползли медленно.
Но Паша все реже и реже сидел по вечерам со мной на лавочке возле дома.
Приходя с работы, он, обжигаясь щами, торопливо ел, быстро переодевался в серый штатский костюм, который мама каждый день специально отглаживала для него. Брюки он надевал очень странно: влезал на стул и осторожно, словно они были стеклянные и могли поломаться, погружал ноги в штанины.
В непривычном костюме он сразу становился не похожим на себя, и мне было даже как-то неловко с ним. Хотя, если хорошенько приглядеться, все равно можно было догадаться, что он летчик, – так по-особенному он ходил, смеялся и смотрел. Вы спросите – как? Объяснить этого я вам не могу, ведь я никакой не писатель, и по литературе у меня даже стоит тройка в журнале, и Вера Александровна пригрозила, что, если не исправлюсь, в четверти тройку выставит. Так что сами лучше понаблюдайте за людьми, которые летают в воздухе, и без моей помощи все поймете. Летчики совсем особенные люди, и их не спутаешь ни с кем!