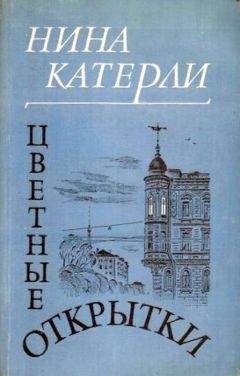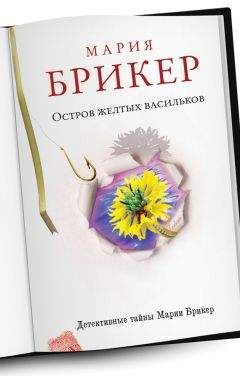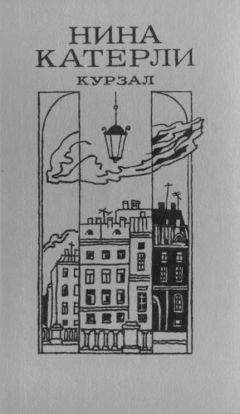Нина Катерли
Цветные открытки
Согнутая почти пополам, старуха эта вместе со своей палкой похожа была на шпильку для волос. Она двигалась прямо на Мартынова, и он видел сгорбленную ее спину, обтянутую вытершимся светлым пальто, видел макушку серой вязаной шапки и руку в красной детской варежке, сжимающую набалдашник короткой палки.
Старуха двигалась как бы на ощупь: сперва выбрасывала вперед палку, потом медленно, как улитка, тянула к ней свое тело.
Кончался февраль. Мокрые груды крупнозернистого, перемешанного с песком снега вдоль тротуаров были уже весенними; весенним было и солнце, слепящее, разбивающееся о лужи, о стекла троллейбусов, и как его отсветы — ярко-оранжевые апельсины в сетках, то тут, то там мелькающие в толпе. Но более всего весенними казались звуки: хруст под ногами, воробьиный галдеж, резкая высокая нота с середины мостовой, где двое рабочих в желтых спецовках методично ударяли ломом о трамвайный рельс. Трамвай стоял рядом и нетерпеливо позвякивал.
Небо над Сокольниками было далеким и бледным.
Мартынов поискал, куда бы поставить грузный портфель, примостил его на мусорную урну и расстегнул пальто. Потом поправил шапку, предварительно отерев со лба пот; в метро была зверская жара, да и вообще чувствовал он себя сегодня не но погоде тепло одетым, тяжелым и нездоровым.
День начался с того, что за завтраком Татьяна, падчерица, дожевывая бутерброд, сказала матери:
— Мне туфли на весну надо, а плащ не надо, буду бабушкин носить, он мне как раз.
Жена быстро взглянула на Мартынова, он отвел глаза. Ничего себе сюрприз: дали девчонке ключи от чужой квартиры — нужно было срочно взять там кое-какие документы, — и, пожалуйста, рылась в шкафу, примеряла одежду… Некрасиво. И совершенно ясно, откуда эта простота нравов.
— Зачем же ты трогала без спросу бабушкины вещи? — тихо спросила жена.
Татьяна вскинула голову, секунду непонимающим взглядом смотрела на мать и вдруг, вся покраснев, вскочила из-за стола. Мартынов понял: сейчас будет скандал. Будет весь набор: рыдания, грубости, хлопанье дверью — все, с чем и строгостью, и лаской они с женой безуспешно боролись последние два года и что внезапно прекратилось, когда Татьяна стала студенткой. Думали, повзрослела… Рано радовались, вон стоит — худющая, губы дергаются.
— Какая же ты, мама… какая ты… — начала было она, но осеклась, еще выше вздернула подбородок и решительной походкой промаршировала из комнаты. Именно промаршировала — метровыми шагами, размахивая правой рукой, точно солдат на плацу.
Через минуту в передней грохнула дверь.
Жена молчала. Мартынов молчал тоже. Ему было неловко: скандал-то произошел как бы из-за него — Танька надевала плащ его матери, жена почувствовала, что ему это неприятно, и вот… Тут, слава богу, зазвонил телефон, жена взяла трубку, и, пока она говорила, Мартынов собрался уходить. Он уже знал — день будет плохой. И верно, — в министерстве, куда он, как было условлено, явился точно к девяти пятнадцати, все сразу пошло наперекосяк: вызвавший его Михеев, оказывается, должен был идти на совещание к начальнику объединения.
— Не журись, — сказал он, подмигнув Мартынову, — можешь в институт сегодня не возвращаться. Был в министерстве — и все дела. Погода хорошая, позвонишь какой-нибудь приятельнице и — на лоно.
Этот бледнолицый, точно сам он никогда в жизни не был «на лоне», желеобразный этот Михеев со своими пошлостями, произносимыми тихим — «услышат!» — голосом, как всегда, вызвал у Мартынова желание сказать грубость, но он, как всегда, промолчал. Зато по дороге к метро (чтобы все-таки поехать в институт) составлял в уме хлесткие фразы, которыми мог бы поставить на место этого деятеля. Фразы получались беспомощными и корявыми. Очевидно, потому, что Мартынов очень хорошо себе представлял, как, выговаривая их, он весь багровеет, на лбу выступает пот, на лице — неестественное, отчаянное, словом, жалкое выражение, а в голосе отчетливо слышится истерика. От этого он еще больше разозлился и внезапно решил в институт не ехать. «Их сиятельство сами разрешили. Я ему не мальчишка — гонять каждый день взад-вперед через всю Москву!»
Жена наверняка еще не ушла, у нее в поликлинике сегодня вечерний прием, с двух. Дойти до Тверского бульвара — пять минут. Но Мартынов упрямо шагал к метро, он вдруг решил, что сегодня наконец-то сможет поехать в Сокольники. Домой.
Домой… Последние пять лет Андрей Николаевич Мартынов жил в квартире своей жены на Тверском бульваре. Эту ухоженную трехкомнатную квартиру в старом московском доме, обставленную и обжитую еще дедушкой и бабушкой жены, он успел полюбить, быстро привык, и было ему здесь уютно и счастливо. И все-таки про этот свой дом он всегда говорил: «У нас на Тверском», а про однокомнатную квартиру в Сокольниках, где жил до женитьбы вдвоем с матерью, — «дома».
С утра город был вполне зимним, весна наступила внезапно, и произошло это, похоже, как раз за те пятнадцать минут, которые Мартынов парился в метро до Сокольников.
…Пока, выйдя наконец на воздух, он приводил себя в порядок, на светофоре вспыхнул зеленый свет, почти не различимый на ярком солнце.
…В тот день солнце светило тоже. Мартынов стоял тогда, пожалуй, точно на этом самом месте, готовился перейти улицу — к троллейбусу. Помнится, опаздывал в местную командировку на завод, поехал на метро до Сокольников и подумал еще, что хорошо бы заскочить на минуту к матери, но не было и минуты, да и не получилась бы минута. Зайти домой можно на обратном пути, а лучше послезавтра, в субботу, потому что сегодня надо еще вернуться в институт, должны звонить из Челябинска. И только он так подумал, как увидел мать.
В расстегнутом белом плаще она приближалась к нему по тротуару и была уже довольно близко, но вдруг резко повернула и направилась к павильону метро. Можно было успеть окликнуть, но Мартынов опять с досадой подумал, что испытания на заводе должны начаться через пятнадцать минут. Он растерянно стоял у края тротуара, а мать, миновав метро, уходила от него по бульвару. Листья еще не начинали желтеть, только что наступил сентябрь. Да, это было… шестого сентября, точно — шестого, в четверг, а в субботу она умерла.
…На светофоре давно горел красный. Машины стояли. Торопясь, Андрей Николаевич перебрался на ту сторону улицы. Он задыхался, ноги были тяжелыми. «Старею…» При матери подумал бы иначе: «Заболеваю…» Теперь, без нее, он в семье самый старший.
Жена оказалась, как обычно, права: идти туда в первый раз одному не следовало, — повернув за угол и прошагав еще полквартала, Мартынов остановился. Под ложечкой жало, вся левая половина груди ныла. Валидола он, конечно, опять не взял, из принципа не взял: если уже сейчас, в сорок семь лет, выходить на улицу с валидолом… А сдохнуть в сорок восемь ты не хочешь?.. А-а, пустяки. Мнительность. Ипохондрия. И погода: наверняка упало атмосферное давление.
Сорок семь лет… Матери было бы семьдесят четыре. Зеркальное отображение… Жила одна. Утром спускалась по лестнице, шла в булочную. Потом — за молоком, потом… («Ну, что ты, Андрюша, я очень много гуляю..») Вечером — телевизор. Принять снотворное — и в постель… Господи, сколько в Москве старух! Вон еще одна, эта без палки, руки бесполезно висят вдоль тела. Идет еле-еле, неуверенными мелкими шажками. Глаза огромные, светлые, перепуганные. Рот приоткрыт, как у птенца. Это сердце — не хватает кислорода… Вот когда впервые всерьез почувствуешь, что и тебе не удастся этого избежать, обмануть судьбу, открутиться, вот тогда и становится по-настоящему страшно… А этой старухе, птенцу, ей сейчас страшно, что она сейчас задохнется..
Мартынов все же на всякий случай поискал в кармане валидол: а вдруг жена положила? Не нашел. Вот такие дела, Андрей Николаевич, экс-Андрюша, распаренный, с отечным лицом и седыми волосами, пожилой — да! пожилой! — чиновник от науки (вон портфель-то аж взбух). Чего тебе, болван, бояться? Что ты можешь потерять? В юности — да что в юности! — еще десять лет назад было огромное количество желаний. Например, влюбиться. Еще хотелось поехать летом в Форос, плавать с маской. Купить машину. И чтобы назначили завсектором. А также сдать наконец кандидатский минимум. Да просто в ресторан пойти, в конце концов! В лучшем костюме и с красивой женщиной. В «Прагу».
Все сбылось, и, заметьте, с избытком. Был не только в Форосе — в Неаполе. Защитил кандидатскую. Назначили (хоть и не доктор!) начальником самой крупной и важной в институте лаборатории. До сорока двух лет прекрасно гулял в холостяках, а потом влюбился в прелестную женщину и увел от мужа. Машина — черт бы ее побрал! — имеется и уже успела надоесть. Кроме хлопот, никакого удовольствия. Все сбылось… Ну и что? Нет, гневить бога нечего, все нормально, но где тот восторг, то замирание души, когда, допустим, где-нибудь на лесной поляне вдруг оглядишься по сторонам и даже слезы к глазам подступят — до того кругом хорошо. Такое ведь бывало не только в детстве. Впрочем, наверное, все правильно, защитная реакция организма: с годами душа покрывается бронированной пленкой, иначе просто нельзя, иначе стопроцентная гарантия инфаркта, потому что свиданий с красотами природы все меньше, а с чиновниками вроде Михеева — все больше.