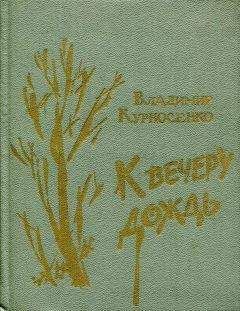А она улыбается на него, глупого; на обеих щеках ее ямочки.
— Как это «зачем»? Люди ж смеются!
— Ну и что?
— Как что? Стыдно ж.
Сты-ыдно! Ах, вон что, стыдно. Ну да, она стесняется. Муж у нее будет дворник. Орать в троллейбусе «Середина же свободна!» она не стесняется, ей не стыдно. Влезть потом, втиснуться и снова орать, назад уже: «Куда прешь, пустой сзади идет!» — это мы пожалуйста, ничего, это нам не стыдно. Ох, милые, милые вы мои! В том-то и дело, в том и дело, что его грехи — это всегда его грехи, а она (кх-х) всегда, почти всегда невинна. Какую бы пакость, какое бы предательство… и… сама себе не заметит. Не увидит, сумеет или сможет «не увидеть». И потому она будет не виновна, а он — да.
Вишь ведь (усмехнулся опять на себя), обидно стало. Завидки взяли. Вот до чего дело-то дошло.
— У меня же квартиру отберут, — выговорил наконец. В тот еще раз должен был сказать, в тот — когда замуж звал ее; да струсил, сам не верил, что согласится.
А она согласилась.
Ах, если б проскочили сейчас этот риф, — все еще, может, наладилось бы.
Вряд ли только… Слабо́ ей!
И опять представилось: холод, фонари… листочки-тряпочки на сыром асфальте… бр-р! Нет, неохота.
Она давно отошла от него, смотрела в окно. Золотые птицы так и встопорщивали свои перья. Задумалась понимающая нежность. «Квартиру отберут…» Раньше, в забубенные еще годы, в ресторане, после отгремевшего веселья, он любил пригласить на танец самую толстую в зале женщину, самую чтоб самую, и молча — танец. И сдержанность, и значительность, и как бы тайная на лице печаль. Танго, танго, разумеется. И что ж? Ни у одной, самой пузатой, не зародилось на свой счет ни малюсенького сомненьица, ни такусенького, ни разу. Верили! Да, да, с ней, именно с ней-то и мечтал танцевать он всю свою жизнь. Остальные, до него, все, все, кроме него, просто ничего в ней не понимали… Слаб, чего уж, слаб человек. Легко ему себя надуть. Песня еще была в те годы: «Танго мое, мой дар Карине, непокорной синьорине…» Ну вот и закончилось танго. Непокорная синьорина глядит в окно, где раскачиваются облетающие сентябрьские деревья. Она решает его судьбу. Решает судьбу. «Квартиру отберут…» Квартиру отберут, плохая, конечно, полуподвал, но с ее полуторкой был все же для обмена вариант, а… втроем тут тесно, лучше уж вдвоем. И если он даже останется дворником, все равно меняться, выходит, нельзя, квартира-то, получается, служебная. Следил, как шли эти мысли по отраженному в оконном стекле широкому ее лицу. Словно электрические буквы над старым зданием горисполкома: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ВОЗРОСЛА… Нет, видно уж, еще обождать. Авось вдруг кто-то получше подвернется, не дворник, она ведь молодая еще.
Ясно, ясно, читал он. Раз-любила, разлюбила назад.
Все! Вопрос закрыт. Все коты остаются при своих масленицах.
Ах, тоска-то какая, господи боже мой. Прямо тоска.
— Ба! А кофе-то!
Да, да, кофе.
Быстрая струйка выпрыгнула из-под вздувшейся бурой шапки и забегала-зашипела шариком ртути по горячей плите. Ладно, не пропадать же напитку, думал с разгону за нее. Не пропадать.
Не гнать же его теперь на улицу!
Ну, да, ну да.
Попили кофею, поулыбались.
Допили, доулыбались.
Не пропадать же.
Она ведь, Карина, тоже была из тех, из толстых. Не шибко чтоб толстая, скорее пышная, роскошная скорее женщина, но так совпало уж, так случилось, что в тот-то день она оказалась самой. На ней и закончилась красивая его привычка.
— Фэх-х! Поставь-ка на пять, — попросил он, когда в постели Карина подняла будильник к глазам. Она была близорука, а он не хотел опоздать на работу. Жизнь продолжалась несмотря на…
Запах теплых волос, живой кожи, запах пойманной дичи и выдуманного его убежища, и страшно, страшно и сперва до того, что чуть не разбудил было ее, королеву, раскинувшую по подушкам прохладные свои руки, спящую, по-королевски не помнящую свои дары. Но не разбудил, стерпел, и вот уж легче, легко почти… и вполне-полне можно ее, жизнь, продолжать. Лежал возле, держался за прядь, за мягкий пучочек ее волос, сжимал его средним и указательным, а в окно заглядывала голубая голова луны. Ухватившись за прядь, за бревнышко в океане ночи, матросом с потерпевшего крушение корабля, лежал. Ха! Вот тут-то и вспомнить бы ту девушку Катю! Левой рукой за Каринину прядь, а правую на лысый потный лоб… и думать, думать-вспоминать, и припомнить-ка себе все.
За ширмой у окна заскрипела коечка, заворочался там Сашка. «Ты зачем к нам ходишь? — вспомнил вместо девушки широкий Сашкин голос. — Скучно тебе?» — «Ага, скучно». — «А ты оставайся, не бойся, у нас хорошо!» — «Спасибо, Сашка, я подумаю…» — «Подумай! — и тащил, тащил за карман к своему столику: — Вот, гляди, как я рисоваю!» Да, да и дом, и два окошка с кривыми рамами, и зеленые ставни, а сбоку труба, растянутой карандашной спиралью дым. Кто ж ее, эту картину, не узнает? Только слева б еще птиц, вот так, из крыльев дужек, раз-два, раз-два, а справа в углу солнце желтенькое, с лучами. Господи! «Сашка, Сашка, — прошептал он, — иди ко мне, подойди…» И тошнотой, трусливой холодно-потной слабостью поднялось по ногам, подступило к горлу, фэх-х, фэх-х… Встал и на высоких босых цыпочках пошел по шершавому ковру — туда, к нему, к Сашке. Горой к Магомету. Магомет спал, разметав в одеяле крепкие ноги с зеленкой на ободранных коленках, и подушка под горячей его щекой была смочена слюной. Глисты, вспомнил, жаловалась Карина. Глисты, наверное. Ну и что глисты? — спал сейчас Сашка. — И что? Не боялся ни с глистами, ни без. Спал, уважая себя, как отдельного человека. «Рисоваю…» И отбитым от борта шаром отскочил на кухню, в лузу свою, — в стул, меж столом и холодильником. Выбросило.
На столе в голубом перекрещенном рамой ромбе стояли грязные кофейные чашки, пепельница с окурками и две оставались еще в пачке сигареты.
Закурил-с.
На дворе лежал снег. Оказывается, пока он страдал, выпал снег и лежал, светясь на крышах, песке в песочнице и на листьях, не успевших еще как следует облететь. Холодно, холодно, поди, листьям-то! И как же это он прозевал, снег. Местами снежинок не хватало: там-сям (где не хватало) виднелись черные дымящиеся в асфальте проплешины. Курил, смотрел, боль над бровью с каждой затяжкой усиливалась, но он курил и думал: к утру снег все равно растает (куда ж ему деваться в сентябре), и никто, кроме него, сидящего тут у чужого окна, про то не узнает. Был, и где он? И потом увидел большую серую собаку, похожую на овчарку, но не овчарку, дворняжку все-таки, с облезлым, испуганно поджатым хвостом. Задерживающейся тихой рысью бежала от мусорных баков, а за ней черными цветочками по белому снегу печатались отчетливые следы. Перед тем, как скрыться, собака подняла голову и поглядела к нему в окно. Заметила, верно, огонек. Заметила и как бы кивнула, а-а, кивнула, это ты-ы, ну-ну, сиди, и потрусила себе дальше. Исчезла то есть.
И боль над бровью тоже вдруг будто растаяла, мягко затупляясь изнутри, и заиграли откуда-то скрипки и еще гобой. Потом стихло.
Он бросил в форточку недокуренную сигарету и потянул ноздрями снежный сладкий и чистый из нее дух.
…Поездов ночами было меньше, и снег к утру не успевал почернеть от копоти. Собирался когда откроешь стайку, белой легкой возле нее кучей: бери лопату деревянную, кидай — так и разлетится снова на снежинки. И тянуло оттуда навозцем, сеном сопревшим, лучше запаха потом и не было уже. У матери черные блестящие резиновые сапоги. Она берегла их, редко надевала, такие были красивые. Дом по штукатурке окрашен желтой краской, а ставни в самом деле зеленые, как Сашка и нарисовал. Вечерами всей семьей садились за лото, и Нинка, сестра, кричала, доставая теплые деревянные бочоночки: «Тлидцать тли…» Мать проверяла у нее белые, в черных квадратиках линий карты и незаметно закрывала бумажками те, которые Нинка не замечала. Печку топили углем, старыми шпалами, которые отец привозил со станции на лошади. Лошадь звали Серко, а отец был путевой обходчик, контуженный раньше на войне. Потом, перед смертью уже, он работал составителем поездов, потому что немного вышел из доверия. Он говорил плохо, больше руками, да еще мычал: м-м, ммы, но глаза имел умные, про жизнь, казалось, ему известно все. И петь, когда выпьет, он тоже мог, и слова тогда выговаривались, и мать не ругалась на него, хотя сама же говорила, что пить отцу, контуженному, не надо бы, что больно сильно он пьяный расстраивается. Отец сидел, расставив по столу тяжелые локти, наливал себе, зажевывал капустой и пел: «Мой старший сын, старик седой, убит был на войне. Он без молитвы, без креста-а зары-ы-ыт в сы-рой зем-ле…» И когда начинался скулеж уже и слезы, мать подталкивала локтем старшенького, иди. Он подходил, и отец клал ему на затылок горячую, потресканную, черную от угля руку. Ногти были на ней выпуклые, огромные, а концы пальцев не разгибались от долгой работы. «Малютка-а-а на-а-а позицию-у ползком па-атрон при-нес…» — выпевал тоненьким дребезжащим голоском отец, а после только уж шептал, сипел и всхлипывал, только кивал сам себе головою. И дышал, дышал в лицо сивушным, отстойно кислым, тошнотным. Когда он умер (вагонами раздавило в гололед), из Города приехала его сестра Елена Михайловна, «мама Лена» потом, приехала просить старшенького к себе. Матери тяжело будет с такой-то оравой, а они с мужем обеспеченные, бездетные. Акимушке у них будет хорошо. Уговорила. Мать плакала, вытирала глаза, куда деваться, отдавала, сама, поди, собиралась вскорости помереть. Отдала. Он парнишечка смышленый, он учиться в городе будет, в институт гляди-ка поступит, а отец… отец доволен бы был, не к чужим людям, к сестре, чай. Увезли, а мать в тот раз не умерла. Перебрались всем табором в деревню к бабке, в деревню Лазаревку. Бабка еще тогда живая была.