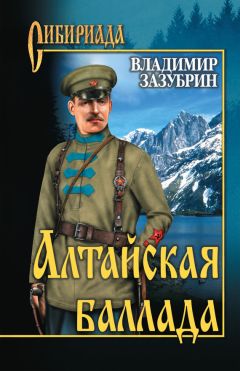Профессор кончил, устало поправил пенсне. Толпа стояла несколько секунд завороженная. Целый поток аплодисментов залил перрон.
– Браво! Браво! – кричали офицеры.
– Гимн!
Оркестр заиграл «Коль славен». Все сняли фуражки.
Станционный сторож два раза ударил в колокол. Матери стали крестить сыновей. Поцелуи, объятия. Женщины плакали. Офицеры садились в поезд. Пестрое лицо толпы металось у длинной красной змеи эшелона, потемнев, беспокоясь. Высокий черноусый Мотовилов стал на площадку вагона, поднял руку. Толпа примолкла, обернулась к подпоручику.
– Господа, от имени всех уезжающих приношу глубокую благодарность за то внимание, какое было оказано нам сейчас. Говорить много я не буду. Нет. Я позволю себе только вспомнить здесь слова незабвенного генерала Лавра Георгиевича Корнилова, сказанные им во время революции. Вот они: «Довольно слов, господа, мы слишком много говорим. Довольно!»
Раздался третий звонок, паровоз резко свистнул, и поезд плавно двинулся вперед.
– Браво! Браво! Правильно! Ура! Ура! Ура! – кричали провожающие.
Мелькали фуражки, шляпы, зонтики, платочки. Тоня шла рядом с площадкой, на которой стоял Петин.
– Андрюша, когда вы убьете первого большевика, то снимите у него с фуражки красную звезду и пришлите мне на память. С германской войны Кока мне каску привез, я была очень рада. Ведь интересно иметь какую-нибудь вещь врага. Не забудете, Андрюша?
– Нет, Тонечка, не забуду. Обязательно пришлю. Поезд пошел быстрее.
– До свидания, Тонечка, до свидания, – офицер посылал смутившейся институтке воздушные поцелуи.
Через несколько секунд станция и перрон с пестрой толпой скрылись из виду. Паровоз развил скорость полного хода. Мимо, навстречу, бежали красные вагоны с запасных путей, низенькие домишки пригорода, зеленые поля.
Дорога была опасная. Красные партизаны часто пускали воинские поезда под откос, делали набеги на станции. Офицерам выдали винтовки, и они во все время пути поочередно дежурили на остановках, боясь нападений. Ехали весело, вина и закусок было много. В некоторых вагонах пьянство стояло непробудное. Сразу как-то все почувствовали, что приближается что-то страшное и огромное, перед чем стушевываются, меркнут все мелочи дня. Поезд быстро катился на запад.
– Теперь ничего не нужно делать, не нужно думать, пей и пой, – говорил Колпаков и гибким баритоном с искорками искреннего чувства запевал:
Приюты науки опустели,
Студенты готовы в поход.
Так за отчизну к заветной цели
Пусть каждый с верою идет.
Искренность Колпакова подкупала офицеров, и все они настраивались грустно, задумчиво, всем им начинало казаться, что они идут защищать действительно дорогую и близкую их сердцу отчизну от какого-то злого и страшного врага. Хор пел:
Теперь же грозный час борьбы настал, настал,
Коварный враг на нас напал, напал.
И каждому, кто Руси сын, кто Руси сын,
То путь на бой с врагом один, один.
Социалист-революционер подпоручик Иванов мечтательно смотрел в даль убегавших лесов и оврагов.
– Какие хорошие слова. Приюты науки… Студенты… За отчизну… За свободную отчизну с Учредительным Собранием…
Мотовилов презрительно плюнул и поморщился:
– Учредилка. Социалисты паршивые. Свобода. Русскому народу нагайку, а не свободу нужно. Жандармов побольше да Царя-батюшку. В этом все наше спасение.
– В насилии нет спасения. Штыками не заставишь думать иначе. Самая хорошая идея кажется пустой или вредной, если ее навязывают. Пусть народ сам изберет себе образ правления. Навязывать же ему царя или совдепы – одинаково пагубно для дела возрождения России.
Мотовилов стал бестолково спорить, ругаться. Иванов замолчал, он вспомнил, что Мотовилов воспитанник кадетского корпуса, что кадета логикой не убедишь… Мотовилов, довольный тем, что за ним осталось последнее слово, начал петь, приплясывая:
Как Россию погубить?
У Керенского спросить.
Офицеры подтягивали бессмысленный припев:
Журавель, журавель, журавель,
Журавушка молодой.
Из другого вагона неслось нецензурное Алла-вер-ды, и далеко в конце поезда сильный тенор хорунжего Брызгалова звенел под звук колес:
Если б гимназистки в мишени превратились,
Тогда бы юнкера стрелять в них научились.
Весь вагон ревел, подхватывая ухарский припев юнкерской песни:
Всегда, всегда с полночи до утра,
С вечера до вечера и снова до утра.
Маленький, кривоногий Никитин, высоко подняв руку, дирижировал:
Эх, тумба, тумба, тумба,
Мадрид и Лиссабон.
Тумба, тумба, тумба,
Сапог и граммофон.
Громкие песни с гиканьем и свистом, смешиваясь с грохотом поезда, наполняли тайгу целым потоком быстро бегущих звуков, тревожили жителей станционных поселков. На остановках вокруг эшелона собирались кучки любопытных. Офицеры заигрывали с молодыми деревенскими девками, хвалились, что скоро разобьют большевиков. Дым и пыль столбами крутились за эшелоном. Как на экране, мелькали станции. На станции Тайшет офицеры остановились на перроне, удивленные неожиданным зрелищем: между двух телеграфных столбов с перекладиной висели три трупа. Двое мужчин в нижнем белье и молодая девушка с длинными русыми косами, в коричневой юбочке. В Тайшете стояли чешский и румынский эшелоны. Комендант станции, молодой чех, крутя в руках щегольский стек, объяснял офицерам:
– Это трех большевик. Двух повешен за ломанию рельсы, а барышня телеграфистка за то, что опоздала с передачей важной телеграмм.
Легкий ветерок играл косами телеграфистки, трепал коричневое платье, покачивал тела повешенных. Лица казненных были спокойны, только девушка в предсмертной муке нахмурила брови и сильно прикусила язык, который резким черным пятном торчал изо рта. Мотовилов был в восторге. Он смотрел сияющим взглядом то на чеха, то на висельников.
– Вот это я понимаю, молодцы чехи, пощады не дают красной сволочи.
Чех самодовольно улыбнулся.
– Ми чех, ми не руск, ми воюем честна. Руск арме плох, он бежит от красных, бежит к красным.
Мотовилов горячо возражал:
– Нет, господин капитан, вы ошибаетесь. Не вся русская армия и русские офицеры плохи. Не спорю, есть среди нас скоты – «афицера», прапорье несчастное, те, пожалуй, бегут, те главнокомандующими и у красных служат. Но есть среди нас и настоящие офицеры, они не побегут. Разве наш Красильников плох?
Чех засмеялся, стоявший рядом с ним румынский офицер щелкнул языком:
– О, Красильникоф-то карош, карош! Комендант покачивал головой.
– Мало руск карош, руск народ свинья неблагодаренный. Чех его освобождаль, чех большевик прогналь, а руск отступает теперь. В России все плох. Порядок нет. Солдаты – большевики. Женщин руск развратный, з нашими чехами эшелонами ездят.
Долго чешский капитан говорил о недостатках России. Офицеры угрюмо молчали. В душе у многих поднималось горькое чувство обиды. Возражать боялись. Дежурный по станции пошел к паровозу с «путевкой». С чувством облегчения бросились подпоручики в вагоны. Колпаков мрачно смотрел в угол, ероша волосы. Потом взял бутылку водки, со злобой ударил по дну рукой, выбил пробку и налил себе огромную кружку.
Поезд тронулся.
В стороне от железной дороги, в тайге, кипела своя жизнь. Партизаны спешно укрепляли Пчелино. Густой туман сырым, серым одеялом закутывал пустые улицы, дворы. Острые железные лопаты со скрипом рвали мягкий зеленый травяной ковер, разостланный вокруг всего села. Говорили шепотом. Вырытую землю осторожно накладывали длинным, черным валом. Дозоры подозрительно щупали мокрую траву, раздвигали кусты, тыкались о деревья.
Красное знамя, потемнев, тяжелыми складками повисло над входом в школу. В большом классе на кафедре горел жировик. Пятна света налипли на лицо Григория Жаркова. Вместо глаз у него темнели впадины. Подбородок стал шире. У секретаря волосы торчали спутанной кучей. За партами стеснилось собрание представителей боевых отрядов, местных крестьян и шахтеров из Светлоозерного. Жировик красноватыми клиньями распарывал комнату. Глаза, щеки, носы, освещенные на мгновенье, наливались кровью и снова чернели. Говорил бородатый шахтер Мотыгин.
– Товарищи, ток што мы кончили германску войну, поспихали к чертям всех бар, как они к нам с новой войной лезут. Сказано было, чтобы без аннексиев и контрибуциев, а им не по нутру. Видишь ли ты, долги старые получить захотелось. Поперек горла, значит, им советская-то власть встала. Не хотится им, чтобы рабочие и крестьяне сами собой управляли, охота повластвовать, барскую свою спесь показать.
Собрание слушало. Шахтер вспыхнул, загорелся, заговорил часто и сбивчиво.