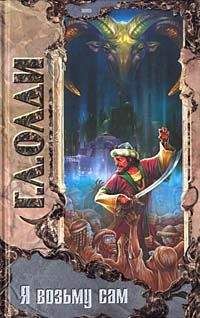Алексею Фомичу хорошо за восемьдесят, телом он слаб высох и как-то съежился, но глаза пока что живые и голова думает. Живет он с семьей сына, присмотрен ухожен, а иногда, заручившись моим или Птичкиным согласием отпускает на несколько дней семью на дачу. Потребности у него скромные, по квартире с грехом пополам но передвигается, так что обязанности мои сводятся к доставке газет и простейших продуктов питания, разогреву обеда и дежурным звонкам по телефону.
Днем я провожу у него часа полтора. Во время и после обеда обсуждаем свежие новости и, как положено у старых одров, ударяемся в воспоминания. Память на детали у Алексея Фомича поразительная. Например, он точно помнит, как мы пришли в его полк.
— Худые и высоченные дылды, — вспоминает он, — а морды щенячьи. Не забыл, как я приказал кашевару давать вам двойную порцию?
— Забыл, — вру я, хотя отлично все помню. Мы с Андрюшкой после месяца запасного полка и маршевой роты так исхудали, что… А после того, что мы узнали о ленинградцах в блокаду, о нашей полуголодной юности и вспоминать как-то неудобно. Но изголодались, все-таки
молодые и бурно растущие организмы. И вот прибываем на передовую, подполковник Якушин произносит речь, а мы его и не слушаем — в сотне метров дымит кухня, пьянит аромат давно забытого тушеного мяса! И я отчетливо помню лучшую команду, которую когда-либо слышал в своей жизни: «Вольно! К кухне — бегом марш!» А пополнение пришло мелкое, мы с Андрюшкой возвышались как столбы над плетнем, вот комполка нас и приметил…
— А как Аникины первую благодарность получили — напоминает генерал.
— Забыл, — вру я, чтобы в десятый раз выслушать историю, которая давно мною записана и лежит в кладовке.
— Врешь, — сердится генерал, — я тебе об этом рассказывал.
— Вру, — признаюсь я. — Просто люблю вас слушать.
— Аникины всегда были недисциплинированные, — неодобрительно, с ворчанием. — Анархисты. Из-за этого и без орденов остались. Не помню, говорил, что в первый раз я сам вас из списка вычеркнул? Своей рукой.
— А разве нас представляли? — искренно удивляюсь я.
— Два раза. Дело прошлое, назад не вернешь… Деревушка под Борисовом, одни печи торчали… — Генерал пощелкал пальцами, — название забыл… Вася Трофимов, Андрей и ты вызвались с ничейной полосы раненых вынести. Вынесли. За это вас представили к «Славам», я уже готов был подписать, и надо же! Аникиных утром под конвоем в штаб приводят! Лейтенанта в кровь избили!
— Пьяного, — уточняю я. — К девушкам из медсанбата ломился, с пистолетом.
— Не оправдываться! На офицера руку подняли! — повысил голос генерал. — Без вас бы не усмирили? Дело я, конечно, замял, но из списка вычеркнул. А в другой раз…
Так мы и беседуем, постепенно проходя боевой путь нашей «лесисто-болотистой» дивизии от Брянщины до Берлина. Вспоминаем погибших, ушедших после войны, а потом переходим к сегодняшнему дню.
— Трофимов давно не звонит, — с обидой говорит генерал.
— В командировке, — оправдываю я Васю. — Валюту из капстран выколачивает для перестройки.
— Не могу понять, — сердится генерал, — что мы, сырьевой придаток — газ продавать? Войну выиграли без валюты.
— А ленд-лиз? — напоминаю я. — А «виллис», на котором вы ездили? А «студебекеры» и свиная тушенка?
— Капля в море!
— Как теперь пишут, не такая уж и капля, — возражаю я. — Это до гласности считалось, что капля.
— Гласность… Совсем на критике помешались, на министров замахиваются, даже на армию! Товарища Сталина в покое не оставляют. Верховного! К хорошему это не приведет, Аникин, попомни мои слова: на Верховного!
Алексей Фомич садится на любимого конька, а я молчу. О гласности и, значит, о Сталине спорить с ним бесполезно, зациклился на всю жизнь. А что? Живет генерал воспоминаниями о войне, а кто привел страну к Победе? Кто сплотил железной рукой, кто гениальным озарением нашел и возвысил Жукова? Кто?.. Кто?.. Кто?.. Люблю Алексея Фомича, чистого, скромного, человечного, а смотрю на него с жалостью. Ох, как трудно вытравить из себя раба! Благодарности от Верховного, палка и знаменитая фраза Жукова, штандарты к ногам вдохновителя и организатора… Очень хочу сказать: «Дорогой мой Алексей Фомич, не он, а мы с вами войну выиграли, да еще миллионы тех, кто на полях остался, да еще женщины и дети, что у станков стояли и вместо тракторов бороны на себе таскали» — но молчу.
— Недавно был у меня генерал-полковник… — Алексей Фомич называет уважаемую фамилию. — Так представляешь, ему замечание сделали, что у него дома — портрет Верховного!
Я молчу. Отставные генералы скучают по Сталину. При нем все было просто: думать не надо, выполняй, аплодируй и восхищайся несравненной мудростью гения всемирного масштаба. А не восхищаешься — голубоглазый лейтенант сорвет погоны (с маршальских плеч срывали!), вырвет с мясом ордена — и теперь знаем, что дальше было.
— Алексей Фомич, дорогой, — не выдерживаю я, — бог с ним, он свое при жизни получил сполна. А вот Тухачевский, Блюхер…
— Оклеветали Ежов и его подручные! — твердо возражает генерал.
— А миллионы военнопленных, которых он превратил в предателей? Даже майора Гаврилова, героя Бреста! Что с ними было после войны?
— Не принимай все на веру, Аникин…
— А Андрюшка, за что его? Эх, Алексей Фомич, дорогой, зачем он вам, боевому генералу, израненному, солдатами любимому?
Генерал тяжело вздыхает, что-то в его концепции не сходится, бреши в ней незаполнимые.
— Андрея жаль… Хотел было узнать… Может, снова попробовать, а, Гриша? — По имени он назвал меня чуть ли не впервые.
Генерал устал, белая голова клонится вниз, глаза полузакрыты.
— Отдыхайте, Алексей Фомич. Вечером зайду.
— Кефир и булочку, в девятнадцать часов.
Я помогаю ему улечься на диван, укрываю пледом и тихонько ухожу.
Разбередил… Что снова попробовать? Что он имел в виду?.. И я снова спешу — в кладовку.
Помните, как я с некоторым высокомерием заявил, что никогда Аникины не были подхалимами? Только что, войдя в кладовку, я поймал себя на мошенничестве: были! И не просто рядовыми подхалимами, каких пруд пруди, а изощренными, отпетыми.
Я уже упоминал, что всю весну сорок третьего мы подлизывались к военкому. Это было не оригинально, в войну многие мальчишки подлизывались, так как нам требовалось попасть на фронт, причем срочно, желательно немедленно. Мы были не такие ослы, чтобы думать, что войну без нас не выиграют, но мысль о том, что ее выиграют без нашего непосредственного участия, повергала нас в глубочайшее уныние. Кроме того, мы, как положено, влюбились, а наши девчонки с восторгом рассказывали о фронтовиках, за которыми ухаживали в госпитале. Почти о наших ровесниках! Это было выше сил, и мы подлизывались. Каждый вечер мы разносили повестки, драили в военкомате полы и умирали от зависти, глядя на ребят, приходивших туда с вещами. Однажды нам неслыханно повезло: мы первыми узнали, что военкому Ивану Михалычу привезли домой дрова, и добились разрешения их распилить и наколоть. Иван Михалыч угостил нас чаем, рассказал об уличных боях в Сталинграде, где в октябре прошлого года потерял руку, приказал нам хорошо учиться и пореже показываться ему на глаза. Он гнал нас в дверь — мы влезали в окно. Скоро нам должно было стукнуть по шестнадцать, но все равно не хватало одного года. Наконец военком не выдержал и дал нам бесценный совет. Не так давно я в одной книге прочитал, что в подобной ситуации такие же ровесники «потеряли» документы и врачебная комиссия, которая в войну разоблачала симулянтов, по наружному виду дала им на год больше. Прочитал — и поразился: ведь это же наша история!
Значит, таких, как мы, было много. То есть мы были не единицы, а явление. Только из нашей компании шестнадцатилетними на фронт ушли четверо: Вася Трофимов, Костя-капитан и мы с Андрюшкой. Вспоминаю об этом, потому что обнаружил в кладовке давным-давно написанные несколько страниц. Сегодня кое-кому они могут показаться чуточку сентиментальными, но
землю могу есть, что это не так: сентиментальность не по моей части, хотя и цинизм тоже. Эти странички, которые я вам сейчас преподнесу, хорошо продуманы, взвешены и полностью отражают мои убеждения.
МАЛЬЧИШКИ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ
Даже сегодня, когда я перечитал уйму отличных книг и облагородил мозги Монтенем, мне бывает трудно разобраться в самом себе. Так могу ли я правильно судить мальчишку, из которого вырос?
Нас, облысевших ископаемых, нынешние третируют как дохлых собак.
— В наше время… — вспоминаем мы.
— В ваше время, — перебивают нынешние, — вы в норы забились и рта не раскрывали!
Молодости свойственна жестокая категоричность, но не станем петушиться и попробуем взглянуть на себя из прошлого.