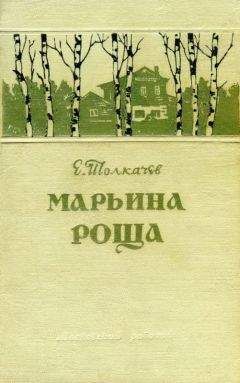— Куда прешь, рыло? Пьян, что ли?
И резкий толчок в грудь встряхнул Петра. Он заморгал и пришел в себя. Перед ним стоял молоденький офицерик в обтянутом мундирчике, и рука его в белой перчатке вновь замахнулась.
— Виноват, ваше высокоблагородие, — залепетал Петр. — Простите великодушно! Шел замечтамшись…
— То-то, замечтавшись, — сбавил тон офицерик. — Ну, шут с тобой! — И, явно довольный такой развязкой, проследовал дальше.
Дворник в фартуке с медной бляхой сметал с мостовой мусор в большой совок. Наблюдая, он приостановил работу и ухмыльнулся:
— Дешево ты отделался, парень. Намедни у нас вот тоже штатский офицера толкнул. Тот, ничего не говоря, вынул шашку, да как рубанет его поперек. Что кровищи было!..
Петр ничего не ответил, надел картуз и зашагал дальше. Никакой обиды он не испытывал. Так и должно быть. Вся жизнь построена по таким ступенькам. Внизу — мужик, темный, неграмотный, неловкий. Им командует городской мещанин, может его прижать, обдурить, шкуру содрать. А над мещанином — купец с деньгами да чиновник-начальник. А над ними — начальство побольше. Еще выше — графы и министры. Над всеми — царь, а над царем — только бог. Все правильно, и нужно подчиняться, на том мир стоит. И вдруг, уже на Цветном бульваре, усмехнулся. Вспомнил Петра Панкратьевича.
…Заходили в кулаковский трактир двое: толстый, важный, с львиной седой шевелюрой, и плюгавенький, незначительного вида. С ними был любезен угрюмый Кулаков, а глядя на него — и «шестерки». Садились приятели вдвоем, заказывал толстый и жужжал шмелем, а плюгавенький слушал, вздыхал и редко-редко вставлял слово. Видно, приживал у толстого.
Однажды плюгавенький пришел один. Петр, бойко скользя, подлетел к столику, смахнул салфеткой крошки и с пренебрежением спросил:
— Чего изволите?
Тот поднял на него близорукие глаза и тихо сказал:
— Стакан чаю. Без лимона.
Петр осклабился:
— Да нешто у нас чайная?
Посетитель молчал.
— Чудные вы, — продолжал Петр. — Ежели приятеля подождать, так и скажите, я не прогоню. А то — чаю! Сидите уж, ждите.
И отошел. Посетитель постучал по столику.
— Чего надо? — уже резче спросил Петр.
— Стакан чаю.
Петр хотел уже чертыхнуться — всякая голь над тобой издевается, но не посмел и доложил Кулакову:
— Вон тот маленький — гы! — чаю просит. Потеха!.. — и под суровым взором хозяина сразу подобрался.
— А ты не рассуждай, как овца, — спокойно сказал Кулаков. — Чаю — значит чаю. Я знаю, что ты думаешь, Петька, только ты глуп еще. Тот, толстый, — регент церковный, пьяница, пустой человек. А этот умник. Так и запомни. Живым манером лети наверх, скажи жене, чтобы заварила лучшего, моего лянсину, и неси сюда Петру Панкратьевичу. Ну, живо…
Никто толком не мог объяснить Петру, кто такой Петр Панкратьевич и в чем секрет его влияния. Арсений полагал, что он богатый человек, только прибедняется. Савка сделал страшные глаза и сказал, что это сыщик. Но все это были предположения. Петр видел, что плюгавенького уважают не напоказ, а по-настоящему. Иногда, кланяясь и смущаясь, подходили к нему спорщики и просили рассудить их. Судил Петр Панкратьевич, несомненно, умно, но как-то необычно. С мелкими житейскими делами к нему не обращались, не такой это человек.
Запомнился Петру его ответ, когда по какому-то случаю Петру Панкратьевичу изложили привычную схему сословных отношений: мужик — барин — начальство — царь — бог.
— Неверно вы смотрите. Сколько богов? Один. А царей? Ну, десяток. Начальства, конечно, побольше, бар еще побольше, а мужиков множество. И ежели это множество захочет, то ничьей не будет воли, кроме его воли. Вот вы удивляетесь, почему так не получается. И не получится, пока у множества много воль. А как будет одна-единая — получится. Все это понимают: и баре, и начальство, и цари. Вот насчет бога не знаю, не спрашивал…
Вот и сейчас вспомнил Петр это необычное суждение. Много — это значит сила. Вот много людей на улицах, а разве это сила? Вот нищий стоит. Его можно обидеть, так, ни за что, потом дать целковый, и он еще рад будет. Вот проехал кто-то важный; городовой подтянулся и отдал честь. Может этот важный городового, скажем, за ус дернуть или по носу щелкнуть? Вполне может, и городовой не пикнет: из графских ручек удостоился. И верно. Никакой обиды тут нет. Так и положено…
Уже не задумываясь, Петр шагал дальше… Вот грязный Самотечный прудок, за ним — Екатерининский парк с раздумчивыми дорожками и тенистой горкой. Дальше— институт, а за крючковатым переулком начинается Александровская. Она уже здорово обстраивается, появились кирпичные дома. Здесь начинают чаще ползти пассажирские линейки и трюхать желтоглазые Ваньки на безответных своих клячах. А вечером звонко про-цокает рысак, легко неся лакированную пролетку на резиновых шинах: какой-нибудь богатей возвращается из города.
А за Александровской, за Сущевским валом — конец города, начало Марьиной рощи. Это сразу видно. Мощеная улица всего одна. Пылища непродыхаемая летом и сугробы зимой. Ни освещения, ни водопровода, о канализации и говорить нечего. Пустыри с застойными, цветущими лужами; здесь часто плавают, пока не сгниют, трупы собак и кошек, сюда экономный хозяин тайком вывозит всякий мусор: не платить же за вывоз по пятаку за колымажку, проплатишься, пожалуй!.. И над всей рощей вонь от выгребных ям, въедливая днем и густейшая ночью. Люди привыкли к ней, не замечают как будто.
* * *
Сваха свое дело тонко знала. Челноком сновала между Замоскворечьем и Марьиной рощей и устроила вторую встречу суженых. Расфранченный, в серой тройке и новых ботинках, которые невыносимо жали, приехал Петр на Сокольнический круг. Здесь в гулком царском павильоне вечером будет концерт оркестра Большого театра под управлением иностранной знаменитости. А до семи часов пускают без билетов.
Вокруг павильона по широкой песчаной аллее гуляли разодетые дачники и публика из «средних».
Пошли. Впереди Петр и она, чуть позади мать невесты с деловито нашептывающей свахой. Петр был смущен, не раз собирался прервать тягостное молчание, но дальше покашливания дело не шло. Она шла рядом, опустив глаза, скромная, приятная, загадочная… А ботинки жали невыносимо. Петр решился.
— Век бы не уходил от вас, так мне с вами приятно, — смущенно проговорил он. — Счастье-то ведь какое!.. Только нельзя мне долго сейчас: дела-с… Может, позволите в другой раз?..
— А вы приезжайте к нам, — простодушно сказала невеста.
Точно в угаре, простился Петр и, только сидя на империале конки и сняв ботинок, понял, что жестоко нарушил этикет встречи. А какие глаза у Вареньки, он так и не рассмотрел.
Но ошибка обернулась в его пользу. Сваха легко убедила Татьяну Николаевну, мать невесты, что смутился Петр от больших чувств. И мать спросила невесту:
— Ну, а ты что скажешь?
— Это моя судьба, маменька, — убежденно отвечала девушка.
— Вон, видала? — Мать покачала головой. — В наше время мы годами сохли, суженого в кои-то веки видели, а тут увидела — и сразу на тебе, готово: судьба.
— А может, верно судьба, Николаевна? — задушевно вздохнула сваха.
— А может, и судьба, — согласилась та. — Мы жили по-своему, молодые хотят по-своему, — и, перекрестясь, добавила: — Ладно, завтра, благословись, с отцом разговор заведу.
Но разговор с купцом второй гильдии оказался нелегким.
— Да ты что? Трактирщика мне в зятья предлагаешь? Из Марьиной рощи?
Неизвестно, что было бы дальше, но в этот миг вошла заплаканная Варя и деревянным голосом сказала:
— Папенька, это судьба моя! Как хотите. — И зарыдала.
Весь вечер Андрей Иванович не говорил с домашними. Сидел у себя, щелкал на счетах, совещался с приказчиком. Промолчал и ночь. А утром, собираясь в лабаз, спросил:
— Что Варвара?
— Известно что, плачет.
— Скажи: довольно! Зовите вашего трактирщика, посмотрю.
После свидания с Петром Андрей Иванович кратко сообщил жене:
— Неплох парень, толков, коммерческий ум; капитала нет, но на размах тянет. Не липкий какой-нибудь, не ластится, как щенок. И знаешь, с характером: не хочет свое дело бросать. «Вы, говорит, в своем деле царь и бог, а я хоть и маленький человек, но свое дело люблю. Торговать по-вашему не умею, у меня свои планы». Сильный! Такой зять мне подходящий.
— Это как же? — всплеснула руками Татьяна Николаевна. — Это что же? Значит, у нас жить не хочет? Значит, Варюша, наша голубка, из родительского дома улетит? Никогда этому не бывать!
— Замолчи! — прикрикнул муж. — Не понимаешь сама, что несешь, мать. Ты, что ль, замуж выходишь или дочь выдаешь? Меня попрекала, а сама дуришь. Есть мое согласие — и конец! Пускай живут отдельно; даже лучше — не поссоримся.
Свадьбу сыграли со всеми церемониями, с большой родней невесты. Со стороны жениха была только мать и держалась скромно, достойно. Молодые уехали на Волгу; только на пароходе Петр рассмотрел, что глаза у жены серые, томные, и светится в них та теплота, что обещает впереди крепкую любовь и безбурное житье. И не знал, того ли ему хотелось…