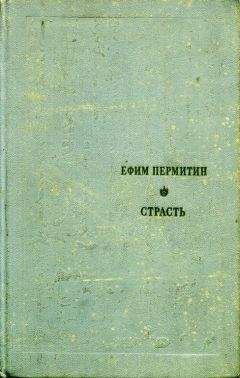Дружная, как вам известно, задалась нынче весна: не уходил бы с двора. Но особенно тихий, солнечный день выдался третьего апреля: парило так, что проталины закурились. Разморило Нику: лежал он на завалинке кверху брюхом и глаза на небо пялил. А небо высокое, в белых барашках.
— Ну, Фросинька, денек-другой и будем свежинку кушать…
Плохо спал Ника. Вышел на двор, и залюбовался: такая мягкая, теплая нежилась, дремала ночь.
Стоит Ника босой, прислушивается, точно гусак, с ноги на ногу переступает. Тихо: с солнцепечного склона, пробивая путь под снегом, журчит ручей.
И вдруг… ясно услышал в небе жирное шавканье селезня и вскрик утки.
Вбежал в избу Ника и закричал: «Фросенька! Утки прилетели!»
Потом схватил скрипку и стал играть…
Утром, к Никиной радости, пошел теплый, спорый дождь-снегоед. С гор хлынула вода. После обеда Ника не выдержал:
— Ударюсь-ка я, Фросенька, на Шиловские луга. Вся утка с прилету на полыньях. Пока там разини-охотники гадают: пришла — не пришла, а я-то наверняка знаю: есть! Я, Фросенька…
Но Фросенька уже собирала мешок мужа.
Любил Ника первые выходы. И тянется он на охоту не проезжей дорогой, где могут встретиться обыватели, а в обход по загорью: «Ты тут, можно сказать, литургею справляешь и эдакое в сердце своем несешь на первых-то выходах, а он к тебе с улыбочками ехидными, с подъелдыкиваньем, — одним словом, с грязными сапогами в душу норовит забраться… Знаем мы их!..»
Дождь перестал. На солнцепеках обопрела — выглянула земля.
Проваливаясь в снегу, пересек Ника Шиловские луга и выпер к Большому затону: там, на незамерзающих родниковых полыньях, он не один год бивал селезней с прилета. Все такие полые места вокруг города у него на учете.
На мысу, в таловом кусту, Никин скрадок. Он только подновил его.
Подмял осоку, хохлясь, как гусыня на яйцах. Налетевшая пара кряковых, заметив охотника, взмыла столбом. Ружье в руках, но курки не подняты. Выстрелить, пока утки были над сушей, не удалось, отпустить дальше — будут вне выстрела. Ника, как он говорит, «лопнул», и селезень шлепнулся в полынью.
Первый селезень! Кто из нас не радовался, оглаживая дымчато-голубое его перо! И этот селезень качался на волнах, дробно перебирая красными лапами. Ветром относило его к середине полыньи, на быстрину: «Унесет!» Ника сбросил треух, полушубок, сапоги. Расстегнул пуговицы у штанов…
Нет, не буду рассказывать вам, друзья мои, как Ника доставал селезня из полыньи четвертого апреля.
Сидеть в скрадке он уже больше не мог: зубы выбивали дробь. Схватился — побежал искать остожье для ночлега. Пробираясь с острова на материк, не узнал лугов: снег раскиселился, воды прибавилось — канавы были полным-полны. И снова припустил дождь. Ника выбрался на гривку и устроился в прелых одонках скирды. От раскисшего полушубка и разогревшегося тела валил пар. Ника уснул накрепко. Вскочил от ледяного ожога:
«Батюшки! Вода!..»
Ночь. Шум и треск ломающегося на реке льда, а к этому ливень и первый весенний гром: не ночь — кара господня!
Ахнуло-трахнуло, и словно надвое развалилась черная кровля небосвода.
Развалилась, а сквозь провал, вдоль этой расщелины, змеей белое пламя. Волосы на голове у Ники поднялись шубой.
Как схватил ружье, селезня, как пробежал первый лужок, поминутно оступаясь в залитые водой ямы, — помнит плохо. Врезалась в память только безбрежная ширь полых вод, занесенные с Ульбы льдины, удары грома, просверки молний да высокие торосы опасного затора, повернувшего всю силу реки в луга.
Споткнувшись о залитый по маковку куст волчевника, упал, ободрал лицо и руки. Волны подхватили его.
— Караул!.. Тону!.. — Но уцепился за ветку и встал.
«На Мамину гриву, она выше, там деревья!» — Ника сорвал с плеч двустволку и, опираясь на нее, как на костыль, побрел: мельче, мельче. Когда почувствовал, что грива рядом, — не выдержал и заплакал.
Обрываясь, расцарапав подбородок и руки, залез на осину. Как уселся на сук и привязался ремнем к стволу — не помнит.
— На рассвете ветер переменился, полетел снег. С Миронычем, — Гордей Гордеич указал на хозяина сторожки Дягилева, — обнаружили мы Нику утром: поплыли спасать затопленных на островах зайцев. Был Ника синий, как баклажан. Мы с трудом сняли его с дерева.
Сегодня у нас четырнадцатое. Вчера, перед выходом на охоту, я зашел навестить соседа. Ника уже не упрашивал Ефросинью Федотовну положить его на горячую печку и накрыть потеплее. Не стонал, как он стонал позавчера, рассказывая о своей беде. С ввалившимися глазами, худущий — в чем душа — выполз он на завалинку и смотрел в сторону Шиловских лугов.
Узнав от меня, что затор на Ульбе прорвало, Ника опустил голову и как бы про себя заговорил:
— Хорошо теперь на Большом затоне, утки от селезней отбиваются, жмутся к гнездам. А селезни на подкряк прут — успевай стрелять только…
Я сказал, что сегодня на Шиловские луга мы идем всей Кузнечной слободкой. Ника поднял голову и повернулся ко мне: «И я, я, пожалуй, стаскаюсь гуда же…» Он с трудом встал с завалинки и, придерживаясь за стену, ощупкой побрел в избушку.
И нельзя было узнать: плачет он, или это так слезятся глаза его: глаза у Ники всегда слезятся…
Охотники захолустного Усть-Каменогорска были ремесленники: кузнецы, слесари, кожевники, шубники — «безземельные хлебопашцы». С ними бок о бок прошло детство и первые годы моей молодости. Я познал своих земляков, как казалось мне в самообольщении, свойственном тому возрасту, не только со всеми их человеческими слабостями и привычками, но и с сокровенными, глубоко скрытыми социальными помыслами всей нашей ремесленной бедноты. Сын столяра, выросший в семье из тринадцати детей, довольно рано изведавший, почем фунт лиха, — возможно, что я имел право так думать. Должен признаться, что уже с безусого возраста я питал склонность к наблюдениям и размышлениям в дневнике.
«Для того, кто годами орудует полупудовым молотом у пылающего горна, дышит испарениями квашеных кож и шубных овчин у осклизлых вонючих чанов, проливает реки соленого пота на чужих, арендуемых у богатых линейных казаков десятинах, без какой-либо надежды вырваться из нужды, один выход из положения — победа твоего класса. И охота — эта древняя могучая страсть, захватывающая людей с такой силой, с какой может сравниться только любовь, — не могла не являться для них радостным отдыхом» — так довольно выспренне, книжно записал я в своем дневнике о моих земляках. И сам, чуть позже став учителем сельской школы, вместе с ними увлеченно и жадно пил из этого неиссякаемого, живительного родника: «умирал за охотой», как выражались мои сотоварищи.
И какие же встретились мне характеры, типы охотников! От заносчивых легконогих хвальбишек с суматошливыми диковатыми глазами, беспардонно паливших во все живое, до степенных, уверенно-медлительных тяжкодумов, рассчитывающих каждый заряд на медную денежку, на кусок мяса. А сколько было созерцателей природы, поэтов в душе, охотящихся больше в одиночку, радующихся не обилию убитой дичи, а красивому выстрелу, ярким закатам и восходам солнца! Были и фанатики летней утиной охоты «по выводкам», готовые целые дни с подвязанными на шею патронташами лазить по непродорным болотным крепям, когда измученная, в кровь изрезавшаяся об осоку и камыши Валетка уже скулила на берегу. Иные признавали охоту только по красной — «царской» дичи. Были таежники-зверовики. Большинство же моих земляков одинаково увлеченно предавались всем видам охот: от стрельбы ожиревших перепелов на просянищах и серых куропаток по мелкосопошнику под самым городком до сослеживаний сторожких дрофичей в заиртышских степях и длительных «отъезжих полей» — за лисами и волками в горных районах уезда. Но и они все же предпочитали изобильные осенние перелеты на Иртыше и Ульбе с обширными поймами, старицами, озерами и озерками — здесь извечный птичий тракт с далеких тундровых гнездований на зимовку в жаркие страны.
И как же ждал я валового пролета птицы! Каждый пролет ее я переживал как целую эпоху. «Золотое время… пора всяческих упований и надежд», — когда-то писал Г. П. Данилевский, прощаясь со своей охотничьей юностью.
…Поздняя осень. Северный ветер и пронизывающий даже в брезентовом плаще дождь-косохлест. Низкие облака. Хмурь. Кажется, что вот-вот дождь перейдет в мокрый снег и начнется тот самый «чичер-птицегон», которого так ждут любители валового пролета дичи.
Горожане-неохотники, ежась от непогоды, проклинают слякоть, непролазную грязь и с нетерпением ждут зимы.
Я же сам не свой: ружье из ремонта можно получить только завтра. А «святая душа на костылях» — он же слесарь Миня Минеев — простодушно шепнул мне: «Не медли ни минуты, Николаич, птицы в Бужурах темно!» Не кто-нибудь — Миня сказал, а он никогда не переливает через край[4].