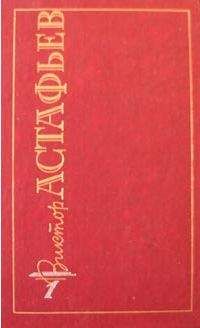Некоторые солдатики начинали мимоходом пощипывать сестер и санитарок. Разговоры велись преимущественно на любовные темы. По вечерам выздоравливающие, переодевшись в уборной в заранее припрятанное обмундирование, а то и прямо в госпитальных халатах, исчезали куда-то. Возвращались они подвыпившие, довольные. Лежачие больные с жадностью слушали их рассказы о «хождениях в народ».
Нравились эти люди Тасе. Все они были для нее — герои. Она только делила их на тяжелых и выздоравливающих. Тяжелые — это беспомощные и капризные, как дети. С ними надо быть аккуратной, вежливой, и если обругают — не обижаться, стерпеть. Может быть, и она, Тася, взвыла и облаялась бы, если бы неловко повернули раненую ногу или тряхнули забинтованную голову.
А выздоравливающие — те чудаки. Будь они молодые или пожилые, все равно говорят: «не женаты». Многие из них «заводят любовь», сидят с какими-то дамочками в скверике, пишут записки, ухмыляются, держат грудь колесом. А когда их выпишут — трогательно прощаются со всеми. Тасе жмут руку так, что косточки трещат, но она терпит, улыбается и желает повоевать им до победы. Есть и такие, которые просят, чтобы она им писала. Адреса своего не знают, а просят. Смешные и хорошие вояки!
Тася из подростка превращалась в девушку. Пополнела и округлилась ее фигура, темно-русые косы отяжелели, глаза ее, большие, серые, бабушкины глаза, смотрели на всех чуть удивленно.
Потом в госпитале появился Николай Дементьевич Чудинов. Он был тяжело контужен, правая рука у него оказалась разбитой. Сиротливо торчал среди темного месива какой-то палец, должно быть безымянный.
Пока в палате было много тяжелых, Тася обращала внимания на Чудинова столько же, сколько и на остальных. Но потом в палате остался из тяжелых только он один, и каждый считал своим долгом прислужить ему, выполнить любое его желание.
Медленно возвращались к Чудинову слух и дар речи. Вначале он сильно заикался. К весне несколько оправился. Рука у пего зажила, говорил он почти правильно, только когда волновался, речь его немного спотыкалась. Он оказался общительным, но в то же время сдержанным человеком. О своих боевых делах Чудинов распространяться не любил. Когда ему было тяжело — страдания переносил мужественно.
Тасе всегда казалось, что у этого человека есть на уме такое, что он не всякому расскажет. Она уважала его за сдержанность, за трезвость суждений, за то, что он ничем не кичился и не гордился. Тасю называл он не дочкой, а Тасюшкой, так же, как называла ее бабушка, и это невольно располагало к нему.
Однажды Чудинову привезли в госпиталь два ордена — Красного Знамени и Отечественной войны. Тася была в палате, когда ему их вручали. Ей очень понравилось, как он вел себя. Он не сунул небрежно ордена под подушку, как это делали некоторые: дескать, у меня их уже полпуда. Но и не растерялся, не залепетал разную чепуху. Он принял в левую руку коробочки, положил их на тумбочку, крепко пожал генералу руку, и только когда заговорил, Тася поняла, как Чудинов волновался.
— Сп-пппп-паси-б-бо з-за н-н-награ-аду! — с трудом выговорил он.
Когда все разошлись, Тася со слезами умиления сказала:
— Поздравляю тебя, Николай Дементьевич!
— Спасибо, Тасюшка, сп-пасибо, — взволнованно ответил он и, крепко сжав ее руку в запястье, добавил: — А меня, Тасюшка, не обязательно величать. Мне ведь только двадцать восемь.
Чудинов стал ухаживать за Тасей. А так как за ней еще никто никогда не ухаживал, то Тасе это понравилось. Да и Николай Дементьевич тихий, обходительный, глупостей никогда не позволял.
Потом был яркий, весенний день. День Победы! Все смешалось, закипело, забушевало. Тася и Чудинов уехали на загородную прогулку, выпили за победу, потом еще и еще. В этот день пили все и отказываться было нельзя. И тогда-то между ними возникла связь, которую они пытались скрыть от зорких солдатских глаз. Кончилось все это коротким письмом, посланным Чудиновым с дороги: «Таисья! То, что произошло между нами, конечно, глупость. Я не сумел сдержаться и каюсь в этом. Мне непростительно это еще и потому, что я многое скрыл от тебя. Я ведь женат и ребенка имею. Так что, видишь, дело-то какое. Нехорошо я поступил, но, как говорил какой-то философ: „Чувство побеждает разум!“»
Вот и все. Чувство побеждает разум. К ужасу своему, Тася обнаружила, что никаких чувств у нее к Чудинову и нет. Тайное любопытство, игра в любовь, желание иметь кавалера — вот что было. Кроме того, время с Чудиновым шло интересней, жизнь текла веселей. Дома ей все опостылело — и ехидная мачеха, и угнетенный отец. Да и откуда ей было знать, что именно в эти годы, когда душа жаждет необыкновенного, романтики, молодые люди совершают большинство ошибок.
Через три месяца после отъезда Чудинова мачеха с сарказмом бросила отцу:
— С прибылью тебя, Петр Захарыч!
— С какой?
— Внука скоро Бог даст.
— Вну-ука!? Откуда?
— Все оттуда же. Неужели шары-то у тебя заволокло и ты не видишь ничего?
— Айда-ко с худого-то места, — испуганно отрубил отец.
— Придет, приглядись. Не от пайки же она так раздобрела.
Вечером отец избил Тасю и выгнал из дому. Мачеха, выбрасывая ее пожитки на улицу, кричала:
— Срам! Стыд! Опузатела с бабушкиных-то кусков!
А отец гремел поленом по столу и кричал на мачеху:
— Ты хотела этого, стер-рва! Радуешься! Уходите обе с глаз моих! Зашибу!
— Тише, тише ори-то. Тронь попробуй, в тюрьме сгною.
Разбитая, уничтоженная Тася брела на станцию. Она ничего не понимала и не чувствовала. У переезда она прислонилась к телеграфному столбу и стала ждать поезда. Когда электровоз загремел совсем близко, она выбежала вперед и легла на рельсу.
Поезд пшикнул, судорожно дернулся, загрохотал и начал наезжать на Тасю. В это время какой-то молодой парень, рискуя жизнью, выдернул Тасю почти из-под самых колес. Она была без сознания.
Через три дня Тася вышла на работу, но ее точно подменили. Она таила свою беременность, боялась смотреть больным в глаза, сделалась замкнутой, пугливой.
Мучительными были роды, но еще мучительнее оказались взгляды женщин, их едкие реплики:
— Такая молоденькая…
— Сладок был грех, да горько похмелье…
— И ведь паразит какой-то и глаз не кажет…
— Сделал свое дело и в сторону. Все они сейчас такие, разбаловались за войну. Вот я тоже…
— Куда она такая с ребенком? Родных-то, видно, нету. Никто не приходит…
Слушала Тася эти разговоры и жалела, что ее вытащили из-под поезда.
Она решила уехать из областного центра. Здесь хоть и не часто, но встречались знакомые, а главное — есть те, которым она прислуживала в госпитале. Как-то шла она по городу, а навстречу ей, будто из-под земли, парень, чубатый, веселый, руку трясет. «Не узнали, значит?» — спрашивает. Оказывается, один из бывших больных. В кино приглашает. Спрашивает. «Может, дров надо подбросить?»
Стоял февраль. Начались первые оттепели. Над карнизами госпитального здания повисли первые, хиленькие сосульки. Крыша была шиферная, и плаксивые сосульки свисали из желобков через равные промежутки, словно их аккуратно начертили.
Тася сидела на скамейке в скверике и смотрела на окно своей палаты. Раненых осталось мало. Госпиталь скоро должен расформироваться. Но Тася не думала об этом. Она смотрела туда, где впервые увидела огромные человеческие страдания и радость возвращения к жизни. Туда, где заработала спой первый, трудный хлеб. Жаль было расставаться с этим старым кирпичным домом. Жаль, несмотря на ту беду, которую она здесь нажила.
По палате, в которой она еще так недавно хозяйничала, приковылял на привязанных костылях раненый. Он отвязал костыли, установил их возле кровати, подпрыгал на одной ноге к окну, поглядел на городские огни. Глаза его задумчивы и печальны. Тася знала, о чем думает, о чем грустит раненый сержант. Думы его самые прозаические: как начинать жизнь без руки и без ноги? Как примет жена? Сможет быть полезным семье и колхозу?
Ей хотелось подойти успокоить сержанта, сказать что-нибудь такое, отчего лицо его стало бы веселым, усы затопорщились бы от смеха, как прежде. Но больной для нее сейчас далек и недоступен. Точно давая ей это понять, он понурился и медленно задернул марлевые занавески, на уголках которых Тасиными руками были вышиты две кошачьи мордочки.
Тася встала со скамейки и только теперь почувствовала, как у нее зашлись ноги в низких резиновых ботиках. Она удобней подхватила Сережку, наглухо завернутого в старое байковое одеяло, и засеменила с госпитального двора.
— Ну что, дочка, попрощалась со всеми? — спросил ее старик, дежуривший и проходной.
— Попрощалась, дедушка, — ответила Тася, и в груди у нее стало больно-больно, — прощайте и вы, дедушка, — торопливо бросила она уже на ходу.
Всю ночь Тася просидела на вокзале. Устала от шума, сутолоки. К утру у нее разболелась голова, ее стало знобить. Она взяла билет на первый попавшийся поезд и, ни о чем не думая, поехала куда глаза глядят.