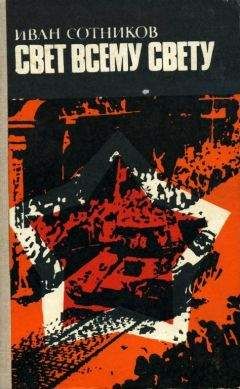— Погоди, Максим, — подхватил Андрей, — узнаем их как следует, они совсем пигмеями станут. Вот не больше кулака, так, кажется, греки считали.
— Не все такие, — сказал Максим. — Видел я и настоящих американцев. Бравые ребята, и душа у них веселая, с азартом. Те били немцев, а эти... эти же торгаши и шантажисты.
2Вернувшись в комнату, обескураженный Фрэнк начал рюмку за рюмкой потягивать виски. Его неудача, которую Уилби почувствовал сразу, видимо, успокоила майора.
— Однако мы освобождали Европу, — продолжал разговор Уилби, — не затем, чтоб устанавливать тут коммунизм. Нет-нет!
— Мы прошли много стран, а нигде не навязывали своих порядков, — возразил ему Березин, — дело самих народов устраивать свою жизнь, как им захочется.
— Ну знаете, дай народу волю, ничего не убережешь.
— Он создает — ему и хозяйничать!
— Ну нет! Ни к чему разжигать страсти.
— Так что же, — встрепенулся шумный Фрэнк Монти, — этак моими акциями в Чехословакии и в Румынии, а вашими, сэр, — повернулся он к Уилби, — в Германии и Венгрии может распоряжаться кто захочет? Я не согласен, нет, не согласен...
— Да не трещите вы, Фрэнк, — рассердился вдруг Уилби на его слишком прямую откровенность. — Много у нас с вами акций? Не в них дело.
— Нет, в них, — не сдавался разошедшийся и менее сообразительный Фрэнк. — Бизнес есть бизнес. Зачем тогда воевать?
— Ишь щеки-то нажевал! — сыронизировала над ним Оля.
Среди англосаксов неловкое молчание.
— Да, мы только берем у народа и ничего не даем ему, — раздумчиво произнес Ривер. — В этом наша слабость. А вы, — поднял он глаза на советских офицеров, — вы даете, и в этом ваша сила.
— Я все же за демократию, — поправился Уилби, — за американскую демократию, лишь бы каждый был волен распоряжаться своим добром.
— За демократию Уолл-стрита, сэр, — наклонился к Уилби Мартин Ривер. — Так это ж насос: им легко перекачивать народные денежки в ваши банки, сэр.
— Нет, за американскую, — рассердился майор, — и мы несем ее всюду: и во Францию, и в Германию, и в Чехию, которые мы освобождаем.
— Если всех их вы освобождали, как Чехию, я не порадуюсь за освобожденных, — срезала Уилби Власта. — К тому же где и когда вы освобождали Чехию? Да-да, где и когда? — переспросила она смутившегося американца.
— Пани Власта должна знать, что американские войска освободили Пльзень, Мост и другие места западной Чехии.
— Но как? Как? — настаивала девушка, с удовольствием чувствуя, как Оля поощрительно сжала ей руку.
Уилби передернул плечами.
— Не хотите, так я расскажу, как, — пригрозила Власта, приближаясь от окна к столу. — Я ведь живу в Пльзне, и мне своими глазами пришлось видеть, как господа американцы «освобождали» западный краешек нашей Чехии.
Мистер Джон Роу и сэр Крис Уилби нервно завертелись в своих креслах. Фрэнк Монти самодовольно улыбнулся и заикал. Лишь Мартин Ривер, нисколько не огорчившись, удовлетворенно откинулся на спинку дивана, закинув ногу за ногу, и, кажется, облегченно вздохнул.
— Ничего не скажу: по заслугам получают, — шепнул он Жарову по-немецки. — Ведь они журналисты-спекулянты, я не из их компании.
— В начале мая чешские повстанцы захватили Пльзень, и когда уж совсем прекратились бои, в город вошли американцы, — не без иронии продолжала Власта. — Ну и началось «освобождение». Сначала город освободили от Национального комитета. Попросту разогнали его, Затем американцы издали приказ и всю власть забрали в свои руки, а населению запретили выходить на улицу. Затем запретили выпуск всех газет, работу почты, телеграфа, радиостанции, приказали всему населению и чехословацким офицерам сдать оружие и в том же приказе потребовали от них обеспечить безопасность нацистским офицерам. Официальным языком сразу же сделали английский, как и немцы в свое время навязывали нам немецкий. Все документы требовали писать только по-английски. А все объявления и приказы печатались сначала по-английски, потом на немецком и только в самом конце — на чешском. А сколько там было пьяных дебошей с кровопролитием! И вы не стыдитесь называть это освобождением? — наступала на гостей Власта.
— Иисус Мария! — схватился за голову Йозеф Вайда.
— Война есть война... — смущенно и раздосадованно бормотал Уилби, проклиная в душе и свой заход к русским, и эту чешку-изобличительницу с ее острым как бритва языком. — То высокая политика, и не нам судить о ней.
— О нет! То низкая политика! — продолжала Власта.
Березин перевел дословно.
— Это оскорбительно, наконец, — рассердился Уилби, вставая.
— Да, оскорбительно, — икая, залопотал и Фрэнк Монти.
— Когда восставшая Прага, истекая кровью, звала на помощь, — продолжала Власта, — наш Национальный комитет в Пльзне организовал отряд добровольцев. Но пришел приказ американских властей отряд распустить и помощь Праге запретить. Лишь тайно некоторым из добровольцев удалось вырваться в Прагу. Это честно, скажите, честно? — все наступала девушка на Криса.
Мартин Ривер лишь посмеивался, радуясь, что достается Уилби.
— А зачем вы разбомбили пражские, пльзенские и другие заводы? — все допрашивала американцев Власта. — Шкодовские заводы работали на немцев — вы их не трогали. А немцам уходить — вы их разгрохали да еще тысячи домов разбили. Что это, военные бомбардировки?
— Это не военные, а политические бомбардировки! — воскликнул Жаров. — Все это низко, сэры и мистеры, И раз вы оправдываете это, мы не хотим оставаться с вами.
— Вы что же, гоните нас? — опешил Уилби, и лицо его вспыхнуло.
— Не гоним, а говорим правду, — повернулся к нему Вилем Гайный.
Фрэнк Монти закашлялся.
Англосаксы заспешили к двери, но Мартин задержался.
— Я не с ними, — кивнул он в сторону ушедших. — У них вместо души карман: с долларом — они нахальны, без доллара — злы, как сто дьяволов! И свобода — им нож под сердце. А вы, вижу, славные ребята, черт бы вас побрал! Если любите простых американцев, тех, что митинговали в дни войны, требуя открытия второго фронта, выпьем за них: они все ваши друзья.
Все выпили и дружески распрощались с Мартином.
— О'кей! — приветственно помахал он рукой уже с порога.
— Этот, видать, честный парень, а те, те — черные гости! — встал из-за стола Березин.
— Освободители тоже! — возмущалась Власта, еще покусывая губы.
3Кончились бои, и Никола все дни не отходил от Веры. Заразительная свежесть пышной весны, пахучие цветы, какие ей по утрам приносили солдаты, живительное майское солнце, звучные песни близких людей, с кем столько времени делила тяготы боев и походов, — все пробуждало в ней чистые сильные чувства, и она не скрывала их. Но стоило заговорить с ней о будущем, как Вера как-то уходила в себя и отмалчивалась.
Они сидели сейчас в тенистом парке, под густым каштаном. Майское утро насыщено ароматом свежих трав и цветов. Воздух чист и прозрачен, и дышится легко и сладко. Скоро домой. Без Веры Никола не уедет. А она молчит и молчит.
— Нет, ты скажи, мы будем вместе? — уже в который раз он задавал ей один и тот же вопрос.
Не отвечая, она не сводила с него синих глаз.
— Скажи же, скажи? — настаивал он снова. И хотя обещающие глаза ее отвечали яснее ясного, ему все же хотелось, чтоб были сказаны эти слова.
— Ну ответь же, ответь! — настаивал Никола.
— Любимый, хороший, — прильнула к нему Вера. — И я хочу того же...
Никола порывисто обнял ее.
— Только...
— Что только? — забеспокоился он, чуть ослабляя руки. — Что?
— Ты же не знаешь своих чувств. Не из кого выбирать — вот и полюбил. А начнешь теперь сравнивать и разлюбишь.
— Сумасшедшая! Я боюсь другого — ты разлюбишь...
Возвращаясь к себе, Вера повстречала Якорева, и они пошли вместе. Заговорили о любви, о дружбе, о верности. Искоса поглядывая на собеседницу, Максим вспоминал свою мальчишескую влюбленность в эту женщину. Удивительно хороша! Как и раньше, она напоминала ему молодую елочку, свежую и гибкую, немножко грустную и колкую. Она сказала ему, что очень любит Николу. А как же стена? Да, стена. Ведь сама говорила, что за старой любовью — как за каменной стеной. Ее ничто не разрушит.
Стена!.. Вера раскраснелась. Она поверила Николе, стена не нужна. Это, пожалуй, верно, и Максим не осуждает. Когда-то он любил свою Ларису, был верен. А пришло время — и нет любви. Все принадлежит другой.
Расставшись, он одиноко побрел по аллее вдоль узкого озера. В душе у него многое прояснилось, и весь разговор этот еще дальше отодвинул его Ларису куда-то далеко-далеко, так что не различить даже лица. Когда он пытался приблизиться к нему, перед ним оказывалось совсем другое лицо: не бледное, а обветренное и загорелое, не круглое, а чуть удлиненное; не пухлогубое, а с тонкими живыми губами, вся прелесть которых раскрывалась в ласковой озорной улыбке; и лицо не то с грустными серыми глазами, всегда устремленными куда-то вдаль, не то с веселыми, цвета морской воды глазами, в которых поминутно вспыхивают горячие золотники. Чье это лицо? Ясно, ее, Оли, шалуньи-озорницы, которая давно уже вошла в сердце, вытеснив оттуда Ларису. Он долго думал, что любит Олю как сестру. Дорожил этой любовью и берег ее. А вот пережили Витаново, и он всецело принадлежит одной ей.