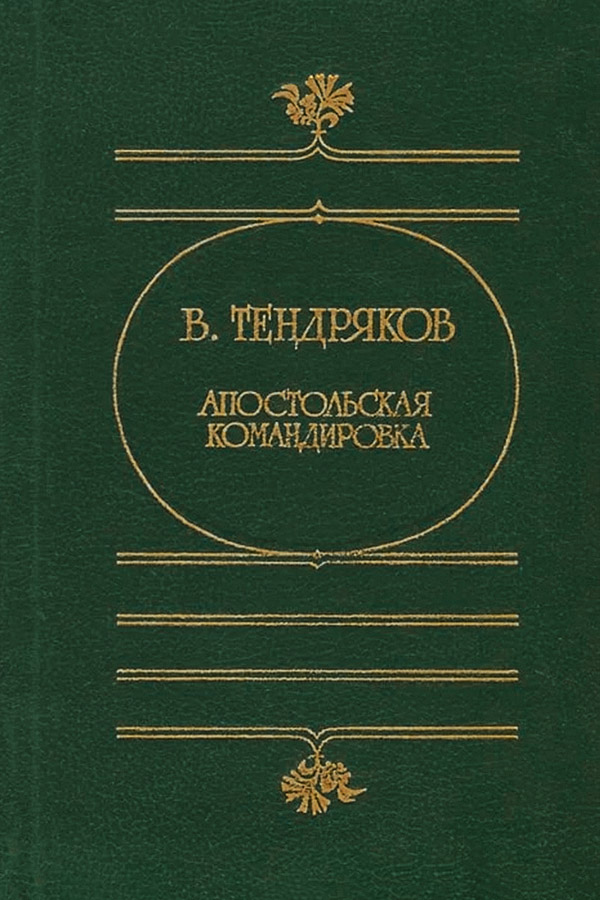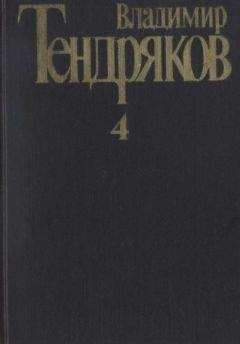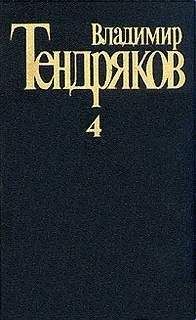моим оправданием может быть только: «Прости!» Инга должна понять, что я переболел, и «не хрипотой, не грыжею», не головокружением от юбки. Наверное, любая болезнь достойна прощения, а эта тем более. Прости, Инга, и пойми! Должна понять, должна еще раз мне помочь в жизни. Старая притча о блудном сыне.
Я спокойно спрятал письмо — решение принято, почувствовал себя собранным.
Тетка Дуся бросала на меня от печи испытующие взгляды. Она по-бабьи догадывалась, что письмо — первое письмо за мое пребывание в Красноглинке! — не может быть просто листком с пожеланиями доброго здоровья. Казалось, она была разочарована: ни великой радости на моем челе, ни огорчения, спокойнешенек, — и насторожена: «Ой ли, так ли все гладко, сокол?»
— Садись за стол, болезный. Яишенку тебе сегодня сготовила и вот… расстаралась.
Передо мной встала широкая сковорода и четвертинка водки. Это проводы, тетка Дуся за ночь не изменила решения, по-прежнему желает, чтоб я оставил ее дом, морока со мной.
Оставлю, но не сию минуту. Прощусь с Красноглинкой, с Густериным.
Я налил водки:
— Не поминай лихом, тетя Дуся.
— Пей на здоровьице, соколанушка. Прости меня, старую, непутевую.
Старуха придавила концом платка слезинку.
* * *
Я бросил в угол рабочие брюки Пугачева, вернее, уже остатки брюк, резиновые сапоги вынес в сенцы — сдам при расчете, натянул хоть мятую, но чистую сорочку, пахнущую не бражным потом, не землей Красноглинки, а забытым запахом городского гардероба, влез в свой московский костюм.
Кончен маскарад, как мог, сыграл роль землекопа, никому не нужную роль.
Хочу домой, хочу покоя, любви Инги, хочу рассказывать дочери сказки, хочу быть прежним!
И все?
Нет, не все! Нужно еще на одно ответить себе: что мне делать?
Только любить Ингу и только рассказывать: «Избушка, избушка, стань ко мне передом»?.. Дожить до старости, почить в мире? А где-то стороной будет идти жизнь, где-то будут страдать люди, что-то искать и находить, торжествовать и разочаровываться, идти на сближение друг с другом и враждовать вплоть до мировых кровопролитий. Где-то, мимо… Не превратишься ли ты в таракана, забившегося в щель, выживающего благодаря своей неприметности? И станет ли любить Инга таракана?..
Человек не может считать себя полноценным, если он не чувствует, что как-то нужен всем без исключения людям на земле. Нужен — докажи делом. Так что же я собираюсь делать, кроме как любить Ингу, развлекать сказками дочь?
Засесть за свою книгу о гравитации, славить науку?..
Я презирал Олега Зобова, талантливого парня, который скоро получит степень доктора, к концу жизни, не исключено, сядет в кресло академика, презирал за то, что он убежден — наука не осчастливит, — убежден в этом и служит ей. Презирал его поведение, а не взгляды. Со взглядами Олега и не хотел бы, да соглашаюсь. Наука поможет изобрести удивительные машины, завоевать иные планеты, одарить людей дешевой энергией, она — готов верить! — поможет даже накормить голодающих. Но мне-то хорошо известно, что сытые столь же не защищены от несчастий, как и голодные. «Люби ближнего твоего…» А насчет любви наука слаба.
Блудный сын вернется.
Но что же он будет делать?.. Славить науку, как славил прежде?
Ой, не знаю…
Я шагал по красноглинской улице, стараясь пошире расправить плечи, выразить лицом снисходительную независимость, — все для того, чтоб заглушить свербящую неловкость.
Глядите все, вот идет Юрий Рыльников, тот, кого вчера принародно уличили мракобесом, на кого указали перстом — берегитесь, опасен! Так что ж, берегитесь, добрые люди! Добрые и свято верящие персту Ушаткова. Вот он! Во всем параде перед вами, глядите, потом будет поздно — лошадь с рогами.
— Здравствуйте, — баба с ведрами, живет через три дома от тетки Дуси, зовут ее Настей, по утрам вот так на улице встречаемся.
— Здравствуйте…
Это не значит, что мы знакомы. Мы просто знаем друг друга в лицо. Но если б даже меня и ни разу не видела, все равно бы поздоровалась. Вежливое «здравствуйте» — для чужаков.
Уступают нехотя дорогу куры. Даже кур «знаю в лицо». И тропинки, пьяно-именинные красноглинские тропинки, и обдутые до стального цвета крыши… Все-таки я сжился с Красноглинкой. И вовсе не понимаю, почему оставляю здесь врагов и не оставляю друзей.
Последние шаги по красноглинской земле, тугой земле, которую испробовал своей лопатой. Впереди Москва. Она меня может встретить тоже как чужого. Воистину, ни в городе Иван, ни в селе Селифан, заблудшая душа.
На дороге кучка парней — клетчатые рубахи, небрежно наброшенные на плечи выгоревшие пиджаки, чубы из-под фуражек, заломленные в зубах папиросы. И Гриша Постнов среди них — ворот нараспашку, рукава закатаны выше локтей. И тот, с вывернутыми ноздрями, тоже тут — не в синей фуражке, в старой кепке.
Они вряд ли специально ждали меня, просто случайно оказались на пути. Они не ждали меня, но я-то ждал такой встречи, потому и расправил плечи, старался выразить на лице независимость.
Расставленные ноги, руки, запущенные в карманы, прищуренные глаза и румянец пятнами на скулах Гриши Постнова.
Наверное, ухмыляясь, отпустив шуточку, они пропустили бы меня, если б не моя наигранная независимость. Ее нельзя было не заметить. Кто-то сделал шаг вперед, кто-то развернулся грудью ко мне, легкое шевеление — и поперек дороги встала стенка. Я подошел… Прямо передо мной — широкая грудь в клетчатой рубахе, нависающий тяжелый подбородок, шапочно знакомый мне тракторист Ваня Стриж, он как-то привозил на наше строительство лес. У крутого Ваниного плеча — Гриша Постнов, цветет скулами, пепелит меня из-под ресниц.
— А здороваться не положено святым апостолам? — грозно спросил Ваня Стриж.
— Здравствуй, — сказал я.
Вчера после лекции передо мной расступились — поверженный, лежащий, нет нужды ни бить, ни ругать такого. Сегодня я ожил, гляжу прямо, отвечаю без робости, держусь независимо — непорядок, должен быть тише воды, ниже травы.
— У-у! — промычал парень в синей фуражке на этот раз уже сердито. — Дай ему, Стриж!
— За что? — спросил я.
— За красивые глазки, — ответил Стриж.
— Ну тогда, конечно, стоит, — согласился я.
Мое спокойствие Ваню Стрижа озадачивало, он насупливал белесые брови, выдвигал на меня тяжелый подбородок. Гриша Постнов поиграл желваками, произнес глухо:
— Он тебя, Стриж, все равно переговорит — грамотный, институт прошел.
Гриша, видать, никак не мог простить, что институт достался мне, не ему.
— Грамотный, а невежливый, первый «здравствуй» не скажет, — Стриж не отличался изобретательностью, не находил веского повода, чтобы исполнить благой совет — «дай ему».
А вокруг уже собирался красноглинский народ: несколько девчат с граблями, голенасто загорелых, в легких платьицах, старухи в