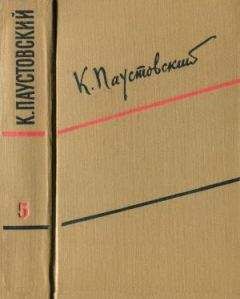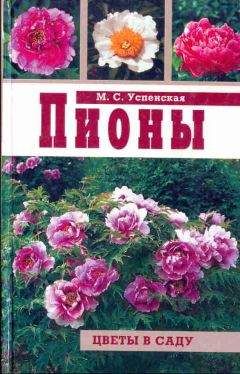Ночевал Грин в пустых котлах на пристани, под опрокинутыми лодками или просто под заборами.
Жизнь в Баку наложила жестокий отпечаток на Грина. Он стал печален, неразговорчив, а внешние следы бакинской жизни – преждевременная старость – остались у Грина навсегда. Уже с тех пор, по словам Грина, его лицо стало похоже на измятую рублёвую бумажку.
Внешность Грина говорила лучше слов о характере его жизни: это был необычайно худой, высокий и сутулый человек, с лицом, иссечённым тысячами морщин и шрамов, с усталыми глазами, загоравшимися прекрасным блеском только в минуты чтения или выдумывания необычайных рассказов.
Грин был некрасив, но полон скрытого обаяния. Ходил он тяжело, как ходят грузчики, надорванные работой.
Был он очень доверчив, и эта доверчивость внешне выражалась в дружеском, открытом рукопожатии. Грин говорил, что лучше всего узнаёт людей по тому, как они пожимают руку.
Жизнь Грина, особенно бакинская, многими своими чертами напоминает юность Максима Горького. И Горький и Грин прошли через босячество, но Горький вышел из него человеком высокого гражданского мужества и величайшим писателем-реалистом, Грин же – фантастом.
В Баку Грин дошел до последней степени нищеты, но не изменил своему чистому и детскому воображению. Он останавливался перед витринами фотографов и подолгу рассматривал карточки, стремясь найти среди сотен тупых или измятых болезнями лиц хотя бы одно лицо, говорившее о жизни радостной, высокой и беззаботной. Наконец, он нашёл такое лицо – лицо девушки – и описал его в своём дневнике. Дневник попал в руки хозяина ночлежки, мерзкого и хитрого человека, который начал издеваться над Грином и незнакомой девушкой. Дело чуть не окончилось кровавой дракой.
Из Баку Грин снова вернулся в Вятку, где пьяный отец требовал от него денег. Но денег, конечно, не было.
Надо было снова придумывать какие-нибудь способы, чтобы тянуть существование. Грин был неспособен на это. Опять им овладела жажда счастливого случая, и зимой, в жестокие морозы, он ушел пешком на Урал – искать золото. Отец дал ему на дорогу три рубля.
Грин увидел Урал – дикую страну золота, и в нем вспыхнули наивные надежды. По пути на прииск он поднимал множество камней, валявшихся под ногами, и тщательно осматривал их, надеясь найти самородок.
Грин работал на Шуваловских приисках, скитался по Уралу с благодушным старичком странником (оказавшимся впоследствии убийцей и вором), был дровосеком и сплавщиком.
После Урала Грин плавал матросом на барже судовладельца Булычова – знаменитого Булычова, взятого Горьким в качестве прототипа для своей известной пьесы.
Но окончилась и эта работа.
Казалось, жизнь сомкнула круг, и Грину больше не было в ней ни радости, ни разумного занятия. Тогда он решил идти в солдаты. Было тяжело и стыдно вступать добровольцем в замуштрованную до идиотизма царскую армию, но ещё тяжелее было сидеть на шее у старика отца. Отец мечтал сделать из Александра, своего первенца, «настоящего человека» – доктора или инженера.
Грин служил в пехотном полку в Пензе.
В полку Грин впервые столкнулся с эсерами и начал читать революционные книги.
«С тех пор, – говорит Грин, – жизнь повернулась ко мне разоблачённой, казавшейся раньше таинственной, стороной. Мой революционный энтузиазм был беспределен. По первому предложению одного эсера-вольноопределяющегося, я взял тысячу прокламаций и разбросал их во дворе казармы».
Прослужив около года, Грин дезертировал из полка и ушёл в революционную работу. Эта полоса его жизни мало известна.
Грин работал в Киеве и Севастополе, где прославился среди матросов и солдат крепостной артиллерии как горячий, увлекательный подпольный оратор.
Но в опасностях и напряжении революционной работы Грин оставался таким же созерцателем, как и раньше. Недаром он сам говорил о себе, что жизненные явления его интересовали преимущественно зрительно, – он любил смотреть и запоминать.
В Севастополе Грин жил осенью – той ясной крымской осенью, когда воздух кажется прозрачной тёплой влагой, налитой в границы улиц, бухт и гор, и малейший звук проходит по ней лёгкой и долго не смолкающей дрожью.
«Некоторые оттенки Севастополя вошли в мои рассказы», – признавался Грин. Но каждому, кто знает книги Грина и знает Севастополь, ясно, что легендарный Зурбаган – это почти точное описание Севастополя, города прозрачных бухт, дряхлых лодочников, солнечных отсветов, военных кораблей, запахов свежей рыбы, акации и кремнистой земли и торжественных закатов, вздымающих к небу весь блеск и свет отражённой черноморской воды.
Если бы не было Севастополя, не было бы гриновского Зурбагана с его сетями, громом подкованных матросских сапог по песчанику, ночными ветрами, высокими мачтами и сотнями огней, танцующих на рейде.
Ни в одном из городов Советского Союза не чувствуется так явственно, как в Севастополе, поэзия морской жизни, высказанная Грином в следующих строках:
«Опасность, риск, власть природы, свет далёкой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, а высоко в небе – то Южный Крест, то Медведица, и все материки – в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с её книгами, картинами, письмами и сухими цветами…»
Осенью 1903 года Грин был арестован в Севастополе на Графской пристани и просидел в севастопольской и феодосийской тюрьмах до конца октября 1905 года.
В севастопольской тюрьме Грин впервые начал писать. Он очень застенчиво относился к своим первым литературным опытам и никому их не показывал.
Грин мало рассказывал о себе, он не успел окончить свою автобиографию, и потому многие годы его жизни почти никому не известны.
После Севастополя в биографии Грина наступает провал. Известно только, что он был вторично арестован и сослан в Тобольск, но с дороги бежал, пробрался в Вятку и ночью пришёл к старому, больному отцу. Отец выкрал для него из городской больницы паспорт умершего сына дьячка Мальгинова. Под этой фамилией Грин долго жил и даже подписал ею свой первый рассказ.
С чужим паспортом Грин уехал в Петербург, и здесь, в газете «Биржевые ведомости», этот рассказ был напечатан.
Это была первая настоящая радость в жизни Грина. Он едва не расцеловал ворчливого газетчика, у которого купил номер газеты со своим рассказом. Он уверял газетчика, что рассказ написан им, но старик не верил и подозрительно смотрел на голенастого веснушчатого молодого человека. От волнения Грин не мог идти, у него дрожали и подгибались ноги.
Работа в эсеровской организации уже явно тяготила Грина. Он вскоре вышел из неё, отказавшись от порученного ему покушения. Он был захвачен мыслями о писательстве. Десятки замыслов отягощали его, он торопливо искал форму для них, но первое время не находил.
Он писал ещё робко, с оглядкой на редактора и читателя, писал с тем хорошо знакомым начинающим писателям чувством, будто за его спиной стоит толпа насмешливых людей и с осуждением вчитывается в каждое слово. Грин ещё боялся бури сюжетов, которая бушевала в нём и требовала освобождения.
Первый рассказ, написанный Грином без оглядки, лишь в силу свободного внутреннего побуждения, был «Остров Рено». В нём уже были заключены все черты будущего Грина. Это простой рассказ о силе и красоте девственной тропической природы и жажде свободы у матроса, дезертировавшего с военного корабля и убитого за это по приказу командира.
Грин начал печататься. Годы унижений и голода, правда, очень медленно, но всё же уходили в прошлое. Первые месяцы свободного и любимого труда казались Грину чудом.
Вскоре Грин опять был арестован по старому делу о принадлежности к партии эсеров, просидел год в тюрьме и был выслан в Архангельскую губернию – в Пинегу, а потом в Кегостров.
В ссылке он много писал, читал, охотился и, по его словам, даже отдохнул от прошлой каторжной жизни.
В 1912 году Грин вернулся в Петербург. Здесь начался лучший период его жизни, своего рода «болдинская осень». В то время Грин писал почти непрерывно. С ненасытной жаждой он перечитывал множество книг, хотел всё узнать, испытать, перенести в свои рассказы.
Вскоре он повёз отцу в Вятку свою первую книгу. Грину хотелось порадовать старика, уже примирившегося с мыслью, что из сына Александра вышел никчёмный бродяга. Отец Грину не поверил. Понадобилось показать старику договоры с издательствами и другие документы, чтобы убедить его, что Грин действительно стал «человеком». Эта встреча отца с сыном была последней: старик вскоре умер.
Февральская революция застала Грина в Финляндии, в посёлке Лунатиокки; он встретил её с восторгом. Узнав о революции, Грин тотчас же пешком отправился в Петроград, – поезда уже не ходили. Он бросил в Лунатиокках все свои вещи и книги, даже портрет Эдгара По, с которым никогда не расставался.