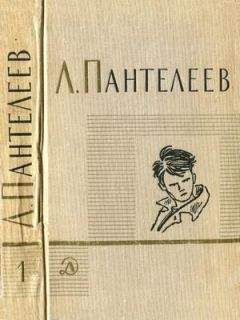— На этот раз, друзья, нам предстоит настоящая работа в боевых условиях. Наш батальон будет дислоцирован в прифронтовом районе. Командование поручило нам строительство укрепленных районов и аэродромов в Московской зоне обороны.
Куда именно нас направляют — никто не знает.
. . . . .
Стоим под Наро-Фоминском. Батальон расположился в густом лесу, там и шалаши, и оружие, и командирские палатки. Но работаем в открытом поле. Роем и укрепляем траншеи, ходы сообщения и тому подобное. Немецкие разведчики порхают над нами совершенно безнаказанно, так как никаких средств противовоздушной обороны у нас нет. Почти каждый день налетают «юнкерсы». Уже четыре раза бомбили участок строительства. Жертв не было. Да и работа наша почти не пострадала. Кое-что камуфлируем. А один раз немецкий летчик даже «помог» нам: воронку от фугасной бомбы удалось использовать при строительстве дзота.
. . . . .
Деревня Митькино. Здесь расположены штаб батальона, кухня, кузница и редакция нашей газеты «Из траншей по врагу». Уже вторую неделю газета выходит ежедневно. В конторе совхоза нашли основательно разбитую пишущую машинку «Ройяль», печатаем на ней в четырех-пяти экземплярах и газету и боевые листки.
Все хозяйственные постройки совхоза сгорели от немецкой бомбежки. То, что осталось, — зрелище мрачное. Заколоченные избы. Старухи, дети, собаки. Несколько девушек-подростков. Парень на костылях — в ситцевой рубахе без пояса, на груди две-три полоски, знаки ранения. Другой парень как будто здоров, но пригляделся — правая рука в черной кожаной перчатке: протез.
. . . . .
В уцелевшей избенке на окраине деревни расположился наш комбат. Сегодня, проходя мимо, видел, как он, поставив ногу на ступеньку крыльца, надраивал вишневой бархоткой свои щегольские кавалергардские сапоги.
. . . . .
Работаем в поле. Все обнажены до пояса. У многих татуировка. У кого «Лиза», у кого «Маруся», у одного: «За милых женщин!», а у высокого, светловолосого и голубоглазого парня — на левой руке, у самого плеча большие синие пунктирные буквы:
«Не забуду мать родную».
. . . . .
Ехали сюда из Болшева через Москву. Очень долго ждали чего-то у станции метро между Ярославским и Ленинградским вокзалами. Винтовки, составленные в козла. Шинельные скатки. Сидим на корточках или прямо на мостовой, на асфальте. Поем «Прощай, любимый город» и другое, такое же душещипательное. Идут мимо женщины, покачивают головами, вытирают кончиками платков глаза. Настроение, что называется, приподнятое. Видишь себя со стороны и любуешься, как любовался когда-то в детстве, в Петергофе, новобранцами и юнкерами в их выцветшей за лето защитной форме.
От Епихина узнал, что едем с Киевского вокзала. Удалось позвонить Александре Иосифовне.
Через Москву шли строем, с песнями:
Белоруссия родная, Украина дорогая…
. . . . .
А. И. ахнула, увидев меня. Загорелый, как черт, с забинтованной головой (солнечный ожог), с шинельной скаткой, с винтовкой, с саперной лопаткой на боку — таким она меня, вероятно, не представляла. Привезла мне гостинец — буханку хлеба. Весьма кстати, потому что кормят нас хоть и неплохо, но далеко не по-гвардейски. А. И. говорила по телефону с Самуилом Яковлевичем, он тоже хотел приехать, мы ждали его до последней минуты — не приехал, опоздал.
. . . . .
От станции до совхоза — сорок с чем-то километров — шли под палящим солнцем походным шагом с полной боевой выкладкой: ранец, в нем одеяло, НЗ, «личные вещи»… Кроме того, на тебе навьючено — скатка, винтовка, саперная лопата, штык в ножнах, подсумок, противогаз…
. . . . .
Еще о комбате.
Не знаю, чего ради некоторым ребятам из нашего взвода дали не совсем обычный наряд: поручили скосить траву на довольно большом участке. Может быть, там собирались что-нибудь строить. Я шел в редакцию, проходил мимо и, хотя сам косить не умею, увидел, что эти косари очень неловко работают косами. В это время проходил мимо наш комбат. Ответил на приветствия, остановился и тоже смотрит. Потом спрашивает у курсанта Полыхалова:
— Вы городской?
— Да.
— Сразу видно. Кто же, братец, так косит! Дайте сюда.
Бросил стек, скинул как перед дуэлью перчатки, взял косу и пошел.
Мы так и ахнули.
До чего же ловко и красиво ходила в его руках коса. Как ровно и покорно, под гребеночку, ложилась высокая трава.
— Товарищ подполковник, — не выдержал Полыхалов, — где же это вы научились?
Он усмехнулся, протянул Полыхалову косу.
— Дело, друзья, в том, что я — крестьянин, крестьянский сын, — сказал он, нагибаясь и поднимая стек.
. . . . .
На солнце защитная форма (гимнастерки, фуражки, пилотки, бриджи) за лето постепенно выгорает и — приспосабливается к цвету хлебного поля. Пока хлеба зелены, и форма зелена. А к осени и то и другое выцветает, становится соломенно-желтым.
. . . . .
И в Болшеве и здесь любимая песня нашего взвода — вот эта, никогда прежде мною не слышанная:
По Уральским степям и долинам
Партизанский отряд проходил…
Это затягивает запевала. За ним те же две строчки подхватывают несколько сильных голосов. И, наконец, поет (дико и грозно орет) весь взвод:
По Уральским степям и долинам
Партизанский отряд проходил.
И опять заводит запевала, и опять еще два раза поют каждые следующие две строчки:
Они шли, за свободу дралися,
К ним на помощь рабочие шли…
Захотелось буржуям напиться
Пролетарской рабочей крови…
Но не знаем, придется ль буржуям
В ро-оскошных дворцах пировать…
А наверно придется буржуям
В подва-алах сырых зимовать…
Почему-то песню эту с ее наивными, даже глупыми словами любят во всем батальоне и чаще всего поют на маршах. Особенно громко и лихо распевают последний куплет, по-видимому недавно кем-то присочиненный:
А советские птицы стальные
Над Берлином будут летать…
В роте у нас много интеллигентов, и все-таки все (и я в том числе) поют «над Берлином». Такова — власть песни.
. . . . .
Москва. Гостиница «Балчуг».
Уже вторую неделю обитаю в этой довольно захудалой гостинице, в большом, «общем», на 22 человека номере. Из казармы попал в казарму. Но днем я здесь, как правило, один. Появилась возможность работать и, прежде всего, привести в порядок мои училищные и «фронтовые» записки. А главное — рассказать, как все было, как я попал в военно-инженерное училище, а потом и в «батальон особого назначения».
А было так, что мне, попросту говоря, надоело… Надоел, приелся до чертиков окружавший меня быт. После чистой атмосферы блокадного Ленинграда этот быт казался постыдно мелким, пустым и ничтожным. Раздражала постоянная толчея в нашем номере, обилие незнакомых, а часто и неприятных мне людей. Я имею в виду, конечно, не тех, кто останавливался у нас, приезжая с фронта или из эвакуации…
Днем я пробовал работать, писал — для газет, журналов, для Совинформбюро. Принимали, хвалили, но мало что увидело свет. Журнал «Смена» принял мою «Ленинградскую записную книжку», два с половиной печатных листа. Номер был набран, подписан к печати, но в последнюю минуту его задержали… Оказывается, нельзя, не пришло время писать правду о Ленинграде.
От той же «Смены» я выезжал корреспондентом на Западный фронт. С публикациями тоже ничего не получилось.
Напечатал несколько рассказов в «Комсомольской правде», в «Учительской газете». Детиздат принял к изданию небольшой сборничек рассказов. Дубровина предложила переиздать в 1944 году под одной моей фамилией «Республику Шкид». То же предлагал мне, еще до войны, Лев Желдин. Разумеется, ни тогда, ни сейчас на этот позор я не пошел.
А жить в Москве становилось как-то очень кисло. И вот я решил проситься на фронт. Подал заявление в ГлавПУРККА с просьбой мобилизовать меня.
12 марта 1943 года получил наконец московский паспорт. А уже 26 марта сдал этот паспорт в Свердловский райвоенкомат г. Москвы.
. . . . .
…Три или четыре дня я пробыл в запасном полку. Что это такое — запасной полк, — я и сейчас не очень ясно представляю…
Видел там разжалованного старшего лейтенанта. Навсегда запомнилось, врезалось в память его страдальческое лицо, его понурые плечи со следами содранных звездочек на погонах. Когда мы строились в две шеренги, этот несчастный всегда становился на правом фланге и всегда немного впереди строя.
— Такой-то! — кричали ему. — Стать по ранжиру!
— Я — офицер, — глухо отвечал он.
— Бывший офицер!
И обедал он — за общим столом, но где-нибудь все-таки на уголке, в сторонке.
Это униженное тщеславие выглядело, конечно, глупо и смешно, и все-таки мне было почему-то жалко этого дядьку.