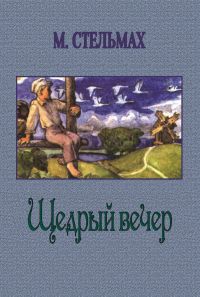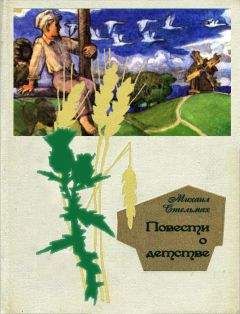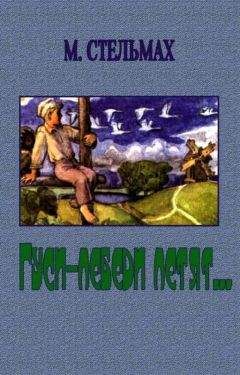Позади послышались шаги: кто-то догоняет его. Магазанник прижался к чьему-то опутанному огородными плетьми тыну, выхватил пистолет.
— Пан староста, это я, — запыхавшись, задребезжал голос Максима, и Магазанник остановился.
— Чего тебе?
— Вот вам долг! — и Калюжный презрительно протянул руку, в которой сжимал несколько бумажек.
— Где так быстро наскреб денег? — удивился и даже растерялся Магазанник.
— Люди скинулись в шапку, то есть родня моя.
Магазанник сердито засовывает деньги в карман и молча удаляется в темноту.
Подвыпивший, с засаленными губами Терешко, что как раз уплетал поросенка, и вправду встречает Магазанника словно родню, только удивляется, почему пан староста не пошел ночевать к Одарке.
— Не пустила.
— Не пустила?! — выпучил глаза Терешко. — Вас — и не пустила?
— Еще и норов показала. Завтра надо забрать ее корову за неуплату податей.
— Утром я возьмусь за нее, анафемскую! Я ей пришью и прилатаю. Дешево не откупится она, — веселится Терешко, который почему-то имеет зуб на вдову, и ставит на стол бутыль с самогоном, режет свежую грудинку, хлеб, сам жарит яичницу и все горюет, что не напали на след поджигателя. — Я бы его живого освежевал. Поднимаю чарку за то, чтобы утихли все ваши боли.
— А не слишком ли много ты этого пития уничтожаешь?
— При нашем деле иначе нельзя, — уставился Терешко в чарку. — То ты идешь в гости, то сам гостей встречаешь, то за партизанами охотишься, то допрашиваешь какого-нибудь типа до полусмерти. А что же за допрос без горилки? И чью-то кровь надо залить горилкой, чтобы не стояла в глазах…
Утром Магазанник проснулся от нестерпимого зуда. Закатав рукава, он увидел на руках пятнистую россыпь красных бугорков.
— Почесуха, — сразу определил Терешко. — Видать, на нервной почве. Начешетесь теперь вволю.
— А чем ее можно лечить?
— Лекарств много, только толку мало, — и Терешко снова начал ставить на стол бутыль, чарки, миски с салом, огурцами и капустой. — Извините, что у меня по-простому, никаких сластей нет, потому как жена сбесилась и сбежала к родителям, не хочет с полицаем жить. Еще и она, дуреха, в политику лезет. Вот и кручусь одиноким. Вы и на обед приходите. Я из общественного хозяйства притащу кабанчика, вот и полакомимся свежениной. — Чавкая, Терешко приглядывается не столько к старосте, сколько к горилке.
Не успели выпить по второй, как на крыльце забухали шаги, затем открылись двери и в хату вошел хмурый, с десятизарядкой на плече, полицай. Магазанник, не веря своим глазам, поднялся и не то вскрикнул, не то застонал:
— Степочка!
Перед ним стоял его сын, с обветренным лицом, злой и постаревший. На шее у него морщинился шрам.
— Сам, своей собственной персоной, добрел до вас, — невесело заиграл мельничками ресниц Степочка. — Так мы, тато, стали погорельцами и вообче?
— Беда! — вздохнул Магазанник, обнял сына, посадил, за стол. — Видишь, у чужих людей уже ночую.
— И не нашли поджигателей?
— Нет.
— Сегодня же перетряхнем все село, как пучок соломы, и у кого-нибудь заиграет шкура, словно бубен! — хищным стало лицо Степочки.
— Что верно, то верно, — охотно согласился Терешко. — Так я пошел организовывать нашу братву.
Когда Терешко вышел, Степочка настороженно поглядел на отца:
— Кроме домашней утвари, у нас ничего не пропало?
— Если бы так… — перешел на шепот Магазанник. — Все золото погибло.
— Все?! — даже замер Степочка и недоверчиво поглядел на отца. — И то, что возле барсуков закопали?
— И то… — Магазанник уронил голову на руки, словно в отчаянии, в то же время думая, какой у него пронырливый сын: все-таки выследил один тайник.
— Тато, выходит, вы не рассовали золото по разным тайникам?
— Рассовал было, а потом собрал вместе в хате. Лучше бы и я с ним сгорел. Всю жизнь собирал тебе копеечку.
— Не надо так убиваться. — Степочка верит, а больше не верит отцу, потому что знает, какой тот хитрец и скупердяй: всегда таился от него с богатством. — А вы хорошо переворошили пепелище?
— Целый день, до самой ночи ковырялся.
— Поковыряюсь и я. А потом, тато, надо снова нацеливаться на золото, ведь при любой власти оно капитал.
— Как же ты думаешь нацеливаться?
— Способы найдутся, пока мы у власти, и вообче.
«Степочка у власти», — с интересом, по иному, взглянул Магазанник на сына, который в это время набивал рот едой и работал челюстями, как жерновами. Что-то новое, нетерпеливое, жадное появилось на его лице, а жидковатая синька глаз стала более хищной. Да кто не становится хищным из тех, что хочет разжиться золотом?
— А как ты, сыну, в полиции оказался?
— Бежал от дыма, а попал в полымя, — презрительно махнул рукой Степочка, но погодя добавил: — И, думаю, правильно сделал, а то самого бы полиция затаскала как бывшего активиста. Когда принимали на новую службу, сказал, сколько сотворил бумаг в тридцать седьмом году.
Магазанник скривился: был у Степочки не ум, а умишко, умишко и остался.
— Вот этого и не надо было говорить: что родилось в темноте, пусть и погибнет в темноте.
— Не бойтесь, тато, надо показать свои заслуги перед новой властью. Немцы такое любят. Ну, так пошли в старостат?
— А что у тебя на шее?
Степочка сразу скривил рот:
— Это у меня память от Бондаренко, уже, слава богу, подсохло. Еще где-нибудь встретимся с ним.
Когда Магазанники вышли на Терешково подворье, к ним бросилась взволнованная Одарка:
— Пан староста, у меня полицаи корову забрали. За что такая напасть?
— Вот тебе на! Почему же они у тебя забрали корову? — Семен делает вид, что ничего не знает.
— За невыполненные поставки.
Магазанник беспомощно развел руками:
— Тогда ничем помочь не могу.
— Но еще ни у кого не брали.
— С кого-то надо начинать, хотя бы в назидание, ведь немецкая власть дело серьезное.
— Так я выполню свое. Заберите подтелка.
— Об этом надо было раньше думать, — и Магазанник выходит на улицу, отмахиваясь рукой от женщины.
Степочка, остановившись, придерживает вдову возле калитки, воровато оглядывается, подмигивает и поучающе говорит:
— Хоть перед богом рыдай, но и он знает, что слезы — вода. Сама виновата, получила за свою гордость. Теперь главное: сгибайся, тогда не сломишься, и вообче. А чтобы облегчить твою долю, сейчас же рассчитайся с податями да еще отцу какую-нибудь взятку принеси. Вот тогда и будешь пить молочко.
Он спокойно кладет пятерню на блузку женщины, та бьет его по руке, шипит: «Жеребец». Но полицай, не сердясь, гогочет, греховно ощупывает женщину похотливым взглядом.
— Чего, бестолковый, вытаращился? — приходит в ярость Одарка, вспыхивает ее острый цыганский взгляд. — На какую-нибудь уличную таращи буркалы!
— Не будь, Одарко, такой привередливой, в войну и на женскую красоту упала цена. А ты, если подумать, не нагулялась в девках, и вообче… Бросай свою мороку да прижмись к моему боку.
— Паскуда! Каков отец, таков и сын, из черта черт и вылупится.
И вдруг на жидкую синьку Степочкиных зенок наползла сизость злости.
— Замолчи, горластая!
Он отступил, сорвал с плеча винтовку. Одарка вскрикнула, отскочила к воротам. Прогремел выстрел. На придорожной вербе застрекотала сорока и, теряя перья, начала падать на землю.
— Вот, запомни: первый раз бью по стрекотливой, а второй — по горластой! — угрюмо поглядел на женщину, повернулся, хлопнул калиткой и подался догонять отца, который видел и заигрывания, и гнев сына.
«Степочка у власти…»
Если сам Гитлер обозвал всемогущего Германа Геринга свиньей, то почему жандармский обер-ефрейтор Ганс Шпекман должен церемониться с туземцами-полицаями, которые так и норовят вместо службы что-то стащить или надуться самогона? Потому полицаи только и слышат от него «швайне» и еще раз «швайне», а иногда и исковерканный мат, который у них вызывает не страх, а добродушный хохот. За постоянное «швайне» полицаи прозвали Шпекмана Кабанусом, в чем, может, и был какой-то смысл, так как, лютуя, обер-ефрейтор истекал слюной, как вышеозначенный вид парнокопытных.
Неведомо почему обер-ефрейтор во вверенном ему селе и до сих пор держит полицейскую стражу под куполом колокольни. Чего он боится, если немцы, как заверяет радио, уже подошли к Москве? Полицаям на колокольне тоскливо до чертиков: там не с кем перемолвиться словом, негде размять ноги, нельзя и в дурака сыграть, и чарку выпить, чтобы не схватить от обер-ефрейтора резиновой дубинки. Единственное развлечение — семечки. Потому на окружающих огородах и откручены головы чуть ли не у всех подсолнухов. Если же какая-нибудь хозяйка поднимает шум, ее сразу успокаивают Терешковым словом: