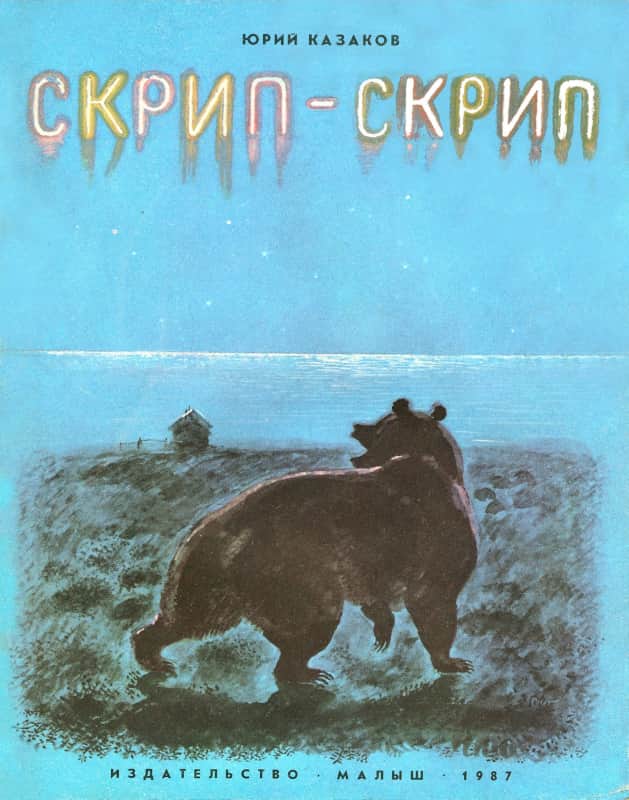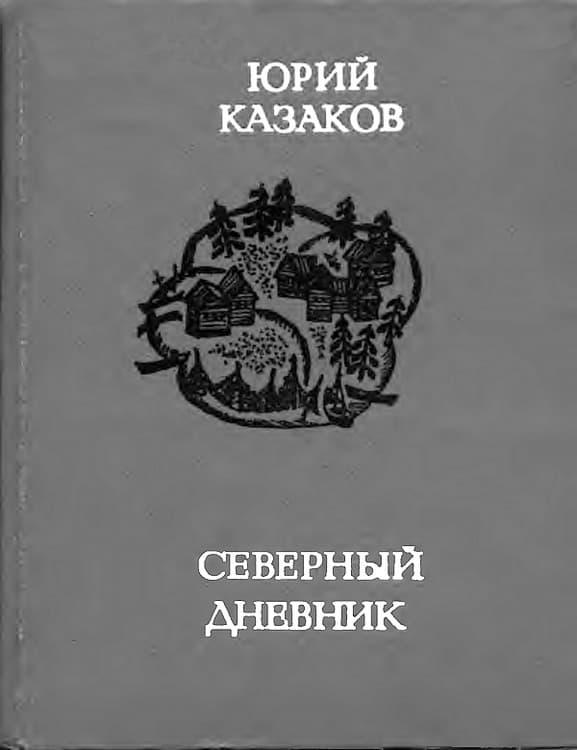делались мучительней и закрадывалась угрюмая мысль: «Зачем я еду?»
Река Кемь со своими порогами, с островами, со сплавным лесом, на многие километры запружавшим ее, то объявлялась, то пропадала, как и солнце, дорога шла то в гору, то под гору, час проходил за часом, народ в автобусе менялся, говорили кругом уже по-фински, пахли все лесом, годами не снимаемой закоженелой одежей, мокрыми платками и фуражками, на полу поскрипывали уже пестери и корзины с морошкой, черникой…
Шофер, чем дальше от Кеми, тем становился ленивей и веселее, болтал с пассажирами, правил одной рукой, другую без конца запускал в первую попавшуюся корзину, горстями ел морошку и чернику, и губы у него давно уж стали синими. На дорогу выходили коровы и лошади с боталами, стояли, задумчиво глядя на приближающийся автобус. Автобус останавливался, шофер уже двумя руками ел морошку и ждал, когда можно будет ехать.
Попадались пастухи, рыбаки и лесники с суковатыми удилищами. Все они были в брезентовых плащах и высоких сапогах, блесны у них были величиной с ладонь, щуки, пачкая плащи слизью, свешивались с плеч и шлепали хвостами по сапогам. Между тем облака впереди стали синеть, а гранитные валуны по сторонам – краснеть. Блеснуло солнце, уже низкое, мягкое, и тотчас на горизонте заблистало, затуманилось, вспучилось громадное пространство воды. Мы подъезжали к Куйттоярви. Оно лежало спокойное, жемчужно-палевое, а острова на нем и облака над ним были голубые.
Печален все-таки Север! Лет шесть назад попал я на Север впервые, всю ночь плыл на пароходе из Архангельска, долго не спал, стоял на пустой палубе, ждал морской качки. Но не было качки, сияла низкая багровая луна, у борта вспыхивали, мерцали зеленые искры, а широкая лунная дорога тянулась до горизонта и там растворялась в блистающем мареве.
А когда проснулся утром – пароход давно уже стоял в Пертоминске, на пристани была суета, катили бочки с селедкой, что-то грузили и выгружали, кричали и махали друг другу. Завывали лебедки, туда и сюда поворачивались стрелы, и какой же запах охватил сразу меня – запах моря, соленой рыбы, дерева, смолы, перегорелого угля, – какие тут, возле парохода, покачивались карбасы, дорки, мотоботы, сколько везде было палуб, рубок, мачт и какой был к северу, за горами, за выходом из Унской губы, глубокий морской простор! И все это грянуло впервые на меня, ошеломило до озноба: вот и я здесь, вот и я сам вижу то, о чем только читал когда-то.
Но меня подстерегало и другое – щемящее чувство пустынности, одиночества… Едва устроившись на квартире, едва попив чаю из шумящего самовара, едва вслушавшись в музыку северной растяжистой речи – пошел я на берег Унской губы. Я все забирал влево, зашел по песку далеко от порта, миновал ряд длинных уныло-сизых амбаров и вышел на берег. Все, что было живо, осталось у меня за спиной, я стоял лицом к воде, к пустыне. Какие увидал я маленькие скрюченные березы и елки, какой заунывный ветер мел по берегу песок, катил и катил волну! А противоположный берег губы был уж и совсем дик и пуст, а за ним лежали какие-то деревни, очень редкие, небольшие, и между этими деревнями простирались десятки километров пустынного берега, по которому мне надо было пройти… Что же это – конец света, край земли, всеми забытый? Но почему же все-таки так легко было у меня на душе, почему светлы были потом мои воспоминания об этом сентябре на Севере, об этих берегах и людях, населяющих их?
Так думаю я и так же радуюсь на другой день по приезде в Ухту, сидя в ожидании катера, который повезет нас на Алаярви. А погода с утра портится, а облака над этой каменистой страной как нигде низки и все придавливают, глушат, – робкие, нежные цвета, вспыхивающие под солнцем, теперь пропали, все стало сизым и серым. Дует ветер, роет на озере крупную беспорядочную волну, возле пристани скребутся бортами лодки и катера, ни одного рыбака не видно на озере, ни одной точки не чернеет.
Со мной сидит Ортьё Степанов – здешний писатель, добродушный, круглолицый и веселый. Он доволен, он рад съездить со мной на Алаярви, рад, что уговорил поехать туда и Татьяну Перттунен.
И она сидит тут же, принаряженная – едет все-таки в гости, – веселая, изредка перебрасывается с Ортьё несколькими словами, усмехается. Не понимаю я по-фински, но слушаю жадно – такой это прекрасный звучный язык, сдвоенные гласные и согласные…
Восемьдесят лет этой Перттунен, даже, наверно, больше, она сказительница, и хоть лицо у нее, как у всех старух – и морщины там, рот запал, глаза повыцвели, – а все-таки присутствует в этом лице еще что-то: гордость ли, сознание ли собственного достоинства, или важности своей жизни, или известности, почета, каким она тут, верно, окружена.
Она совсем не говорит по-русски, на меня не смотрит и ко мне не обращается, да и с Ортьё говорит мало, больше раздумывает о чем-то. Живет она одна – сама косит, гребет сено, ловит рыбу, ездит на острова за ягодой и грибами – словом, делает всю необходимую тяжелую мужицкую работу, без которой тут не проживешь. Но ведь восемьдесят лет! К тому времени, когда установилась советская власть в Карелии, ей было уж лет сорок – целую жизнь прожила. И как! Что тут было в прошлом веке, в этом краю лопарей, в краю тихого народа? Смутно воображаются мне бедные дома, бедные люди, темные ночи зимой, тишина над землей, нарушаемая изредка курлыканьем лопаря, едущего на лодке за сто верст в гости, или его же выстрелом по лосю. Какие-то стада оленей проходят бесшумно передо мной, прыгают в речках лососи и семги, женщины в белом мелют хлеб у порога, прядут и ткут по лавкам… Были ли тут мельницы? Не было, наверное, и дорог не было, и чем жила все эти столетия наша земля, какие были войны, революции, какие Бетховены и Толстые рождались и умирали – ничего того тут не знали, и время для этого народа как бы и не текло, так же как не течет оно для этих камней и озер.
И сейчас-то здесь не ушла еще та жизнь – радио, электричество, клубы, леспромхозы – это все в Ухте. Ну, а вон там, за теми низкими вараками, – что там? И вот там? И там?
Я перевожу взгляд по горизонту, воображаю какие-то деревни среди варак и озер на берегу шумящих порожистых рек, на розовом граните. Вот и