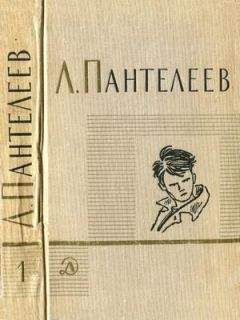Но меня интересуют сейчас больше не немцы, а толпа, в которой я нахожусь.
Какая же реакция?
Прежде всего — удивление. Вон они какие!.. Страшенные, обросшие, на людей не похожие…
Но тут же мужские голоса:
— Побудь два года на передовых, тоже на себя похожа не будешь!
Жалость, брезгливость, насмешка. И ничего похожего на так называемую ненависть. Только некоторые пожилые женщины пытались выкрикивать что-то вроде проклятий:
— Разорвать бы их на куски! Подумать, что эти гады мазали нашим деточкам губы ядом…
В общем же симпатий никаких, разумеется, не было, но и тот гнев, который люди принесли сюда, исчез куда-то, испарился, когда мимо потекло это несчастное, голодное, измученное, истерзанное быдло.
Слышал и такое:
— Тоже рабочие люди!..
— Не всякий своей охотой пошел.
— Ой, поглядите-ка, старый какой!
Кое-что трогает. Один из пленных — черный белоглазый, курчавый — жадно курит «под губки», то есть крохотный, обжигающий губы окурок. Толкает впереди идущего, передает ему. Тот жадно затягивается и передает следующему.
Или — в последнем ряду идут больные.
— Глядите, глядите, друг дружку под руки ведут.
Вдруг — дикий плач. В толпе мечется семи-восьмилетняя девочка.
— Что с тобой? Задавили? Маму потеряла?
— Боюсь! Ой, боюсь! Ой, немцев боюсь!..
А она их и не видит, бедная. Только слышит мерный топот их ног.
Прошло мимо нас несколько тысяч (тысяч десять — пятнадцать, я думаю) фрицев. Ни одной, даже самой робкой улыбки на их лицах. И на толпу почти не смотрят. Особенно эсэсовцы. Эти (с какими-то отметными значками на груди) глядят и в самом деле зверями. А остальные — люди как люди. Есть и совсем мальчики, есть и старики. В очках. Интеллигентных лиц мало. Офицера не сразу отличишь от рядового. Почти все мрачны, испуганы, ждут или ждали, по-видимому, эксцессов. Но таковых, кажется, не было. И меня это по-настоящему радует.
Большинство групп (или отрядов) проследовало по Смоленскому бульвару к Калужскому шоссе. А последняя — свернула к Киевскому вокзалу. Каждую группу кроме конвоя сопровождают два немца (какие-нибудь старосты?). Перед каждой колонной вместе с русским офицером идет девушка в штатском, переводчица. В арьергарде — советские санитарки с красными крестами на сумках. Пленных «проконвоировали». Но толпы на бульварах и на прилегающих улицах еще долго не расходились. Много разговоров о том, для чего их вели через Москву.
— Им начальство-то что говорило? Что Москвы давно нет, что «Москва — капут». Вот им и показали, капут или не капут.
Эту наивную версию я слышал в течение всего дня.
Слышал такой разговор. Лейтенанта милиции окружила компания «калек», инвалидов Отечественной войны.
— В общем, несчастный народ, — говорит лейтенант. — Многие небось с первого дня войны на фронте.
— Ясно! Тоже досталось.
— Точно. Ох-хо-хо!!. Война проклятая. (И мать-перемать.)
Записываю все это наспех, очень небрежно. Недосуг. Но день этот оставил память светлую. Что-то очень хорошее, о чем я, впрочем, и раньше знал, но о чем забываешь, увидел я в характере русского человека.
. . . . .
Вечером навестил больную Олю С. Там было еще несколько девушек и одна пожилая учительница. Кто-то сказал, что один «эксцесс» все-таки сегодня был. На Крымском мосту несколько мальчишек забрались на ферму и обстреляли фрицев из рогаток.
Девушки засмеялись, а старая учительница сказала:
— Ничего смешного не вижу! Мне стыдно. Этих ребят плохо воспитали. Им не внушили, что такое благородство, не объяснили, что лежачего не бьют.
. . . . .
Поет по классу рояля.
. . . . .
Маленький мальчик:
— Папа, подари мне такой вот кинжальчик.
— А что ты с ним делать будешь?
— Ну, что… Мальчишков тыкать.
. . . . .
Довольно благообразного парня лет 16–17 сняли с трамвайной «колбасы», ведут в милицию. Кепка его — в руках милиционера.
— Вы кепку не ломайте! Учтите это, — не ломайте!
. . . . .
Пилит мужа. Тот сидит с ногами на стуле, покорно кивает головой и бубнит:
— Да, да, я — гадкий. Я гадкий, Иринушка. Я знаю — я гадкий.
Шестилетний Алеха слушал-слушал эту самоуничижительную похвальбу отца, не выдержал и крикнул из своего угла:
— А я — гадее!
. . . . .
Вечером на пустынной Пятницкой улице господин в коверкотовом пальто — спутнице:
— Посмотри, какая луна шикарная.
. . . . .
— А, черт слепоносый!
. . . . .
Редактор детского журнала на собрании сотрудников говорил, что журнал должен постоянно напоминать детям о жертвах, понесенных их отцами и дедами:
— Наши читатели, товарищи, ни на минуту не должны забывать, что они ходят по костям и черепам.
Эпиграф:
«Все было ужасно, но никто не ужасался».
Викт. Гюго, «93-й год»
. . . . .
У Павелецкого вокзала небольшой ларек, павильончик. На нем вывеска:
«ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ САМОВАРОВ».
. . . . .
Хлестаков-журналист редактору:
— Я тебя могу забросать Героями Советского Союза!..
То есть у него материала — во!
. . . . .
Еще недавно, три года назад, он был совсем как огурчик. Ходил гоголем, выпятив грудь, поблескивая чем-то золотым — не то зубом, не то кольцом. А ныне — согнулся, сгорбился… Где его зубы? Где его блеск? Где его модный костюм — не то голубой, не то бежевый? Ничего не осталось от прежнего Л. - только разве что голос — важный, барственный, ленивый и снисходительный, да и в нем, пожалуй, куда меньше лени, чем самой простой усталости.
А ведь не воевал, не был в Ленинграде. Все три года проживает в Ташкенте.
. . . . .
Третий месяц живу в Замоскворечье, в Славущенском переулке, в одноэтажном каменном флигеле, переделанном еще в годы нэпа из конюшни. В двух небольших квартирках этой бывшей конюшни живут одни москвичи. Соседки мои — мать и две дочери — музыкантши. К матери ходят ученицы, берут уроки пения. Дочки — одна играет на скрипке, другая — на виолончели. С утра до ночи арпеджио, сольфеджио, пилят, скрипят, рычат и взвизгивают. Но я терплю. Очень уж хороша и у них и у всех окружающих московская речь. А по соседству, в пяти минутах ходьбы — Зацепский рынок. Тоже одно удовольствие бродить и слушать.
. . . . .
Екатерина Владимировна, учительница пения, кончившая консерваторию, о моей печке:
— Эта голландка, я вам скажу, прожорлива. По-настоящему если топить, на нее беремя два в день надо.
. . . . .
Старик продает на рынке бритву:
— Тупая?!! Ты посмотри! Ее ничеухтеньки точить не надо.
. . . . .
— Очень борзо вы ходите, Алексей Иванович.
. . . . .
Зацепский рынок:
— А ну, закуривай! Крепкие ароматные сигары! Один курит, трое с ног падают.
. . . . .
Слепой на рынке — с толстенной засаленной книгой на коленях. Водит по ней пальцами, как по гуслям.
— Гадаем служащим, рабочим и всем между прочим!
. . . . .
Объявление на стене:
«Одинокий на полтора месяца снимет КВАРТИРУ или ХОРОШИЙ УГОЛ. Оплата по соглашению. Плохих не предлагать».
. . . . .
Мороженщица:
— А вот кому! Есть сочное, дальневосточное!..
Бессмыслица? Заумь? А ведь звучит. И потому — годится, привлекает внимание. Совсем как у Маршака:
Апельсинное,
Керосинное
. . . . .
Пьяный в метро поет:
Я любила лейтенанта,
А потом политрука
А потом все выше, выше,
И дошла до пастуха
. . . . .
Веселый кочегар и мастер на все руки — Андрей Евграфович. Маленький, плотный, с роскошными буденновскими усами. Летом по воскресеньям ходит без пиджака, в подтяжках и при галстуке. Слегка выпивает, конечно. Кумир всех жильцов (главным образом жиличек, соседок). Чинит матрасы, вставляет стекла, замазывает на зиму оконные рамы, пилит и колет дрова…
. . . . .
На Зацепе.
— А вот кому — бывший костюм бывшего сукна бывшей Прохоровской мануфактуры!..
. . . . .
Там же. Мужик осматривает валенки.
— Валеночки законные.
. . . . .
Девушке снилось, что ей пришивают усы (шилом протыкают щеки).
. . . . .
Андрей Евграфович вставляет стекло в квартире Образцовых. Екатерина Владимировна, с которой они большие друзья, стоит рядом. Разговор «о политике». Апрель 1945 года. Идут бои за Берлин.
Он. Теперь их окружили. Теперь им выхода нет.
Она. Под землей-то, наверно, есть у них ход.
Он (небрежно и уверенно). Это-то есть…
. . . . .
«Солдатские слезы — страшная вещь».
В. Гюго
. . . . .
Аполлон Григорьев* писал, что, кто бывал и живал в Москве, но не знает таких ее частей, как Таганка и Замоскворечье, — тот по существу не знает Москвы… «Как в старом Риме Трастевере, может быть не без оснований, хвалится тем, что в нем сохранились старые римские типы, так Замоскворечье и Таганка могут похвалиться этим же преимуществом перед другими частями города-села, чудовищно-фантастического и вместе великолепно разросшегося и разметавшегося растения, называемого Москвою».