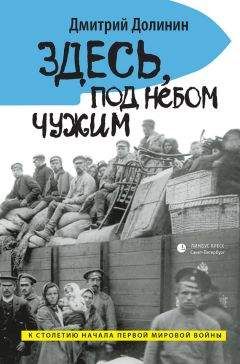2
Лаврентьев лежал в центральной областной больнице, куда его доставил самолет санитарной авиации. Катя вызвала тогда хирурга из района. Хирург, в свою очередь, позвонил в область. Состояние раненого было чрезвычайно тяжелое: пробита брюшная полость, поврежден кишечник, сломаны ребра. Он не выходил из глубокого шока. Районный хирург едва успел обработать раны, как на лугу возле села приземлился самолет. Через пятнадцать минут самолет снова взмыл, развернулся и унес с собой агронома. Всем селом смотрели вслед снежно–белой машине, и многие в эту минуту думали, что навсегда расстались с человеком, к которому привыкли, с которым сроднились и без которого жизнь колхоза как–то и не мыслилась, будто участвовал он в ней с тех давних пор, когда обобществили первых коней, первые хомуты и бороны и когда было так трудно, непривычно трудно работать сообща, что хоть бросай все и уходи с земли на лесные разработки, на станцию в стрелочники, уезжай в область — на завод или на фабрику.
Люди долго стояли на заметенном снегом лугу, на котором оставили след широкие лыжи, и почему–то молча разглядывали Клавдию. Она не стеснялась этих взоров; прижав руки к груди, страдающая и увядшая, как молодое деревцо наутро после ночного заморозка, смотрела сухими глазами туда, где растаял, исчез в безоблачном небе стрекочущий самолет.
Лаврентьев лежал в горячечном бреду, за жизнь его опасались не только воскресенцы, но и самые знаменитые хирурги области. Они подходили к постели, говорили слова «пенициллин», «переливание крови» и хмурились.
Лаврентьев видел отца, мать, видел Наташу, речку Каменку и пескарей среди валунов на песчаном дне. Пескари были верткие, ловить их трудно. Вильнув хвостом, они подымали со дна рыжую муть, и из этой мути возникало что–то страшное. На всю палату, отдаваясь в коридорах, гремели тогда команды: «Огонь, огонь!» — больной бился, сбрасывая одеяла, приказывал сиделке, дни и ночи неотлучно проводившей возле его постели, немедленно подать автомат, — наступал, видимо, час рукопашной схватки, противник окружал батарею. Потом вновь он крушил быка Бурана, отчего однажды ночью подогнулись ножки его складной кровати. Бывший комбат метал гранаты — вдребезги, в черепки разлетались больничные чашки и тарелки, схваченные со стола судорожно дергавшейся рукой. Лаврентьев боролся за жизнь, он не хотел смерти; а смерть подступала к нему со всех сторон. Она шла цепями психических атак, валила бычиными стадами, ползла гадюками, просачивалась в палату ехидными старушонками–горбуньями.
Горячка проходила медленно, капля по капле оздоравливалась зараженная кровь, ступенька за ступенькой, от недели к неделе спадало напряжение борьбы за жизнь. Дышать стало легче.
Однажды он вдруг увидел себя лежащим на постели. Белая комната была залита солнцем, за окном висели сверкающие сосульки, с них звонко капало на жестяной подоконник. Спиной к Лаврентьеву, возле окна, стояла женщина в белом халате, и пышные волосы ее, пронизанные солнечными лучиками, искрились вокруг головы, как золотой прозрачный дым.
Он узнал ее и понял, что еще бредит, что еще в забытьи. Так бывает во сне: хочешь проснуться, как будто бы проснешься, а это снова сон. Конечно же это сон — у окна стояла Клавдия. Но пусть сон — зато какой хороший!
— Клавдия, — позвал он шепотом по имени; во сне ведь можно и без отчества.
Клавдия обернулась, быстро шагнула, склонилась возле постели, припала головой к его плечу.
— Петр Дементьевич… — твердила и не знала, как ей быть дальше. Шесть недель она провела почти без сна; он ее гнал, проклинал, называл шпионкой, дрянью, в нее летела посуда, с которой она кормила его ложечкой, как ребенка. Шесть долгих недель прошло в ожидании дня, когда Лаврентьев очнется; он очнулся — что же делать и как быть? Это порыв — прижаться головой к плечу, разрядка после напряжения нервов и сил. Всякий порыв проходит. Клавдия, взволнованная, поднялась. Лаврентьев лежал с закрытыми глазами, слабый, немощный и счастливый.
— Клавдия, — продолжал шептать. — Клавдия…
Это было в конце февраля. Тогда же он получил телеграмму из Междуречья. Окружная избирательная комиссия спрашивала его о согласии баллотироваться в депутаты районного Совета по Воскресенскому округу. Долго и удивленно рассматривал Лаврентьев телеграмму. Позвал врача, сказал: «Доктор, как же я могу согласиться? А вдруг я умру?» — «Соглашайтесь, — ответил врач. — Умереть мы с Клавдией Кузьминишной вам не дадим. Так у нас решено. Правда ведь, Клавдия Кузьминишна?»
Теперь шел апрель. Лаврентьев вставал, томился от безделья, рвался прочь из палаты, из больницы, но его не пускали: рано, рано. Клавдия недавно уехала, без нее стало тоскливо и беспокойно. Между ними было все сказано. Не сразу сказано, — после долгих душевных мытарств. Лаврентьев понял, что если бы не это несчастье, не этот свирепый Буран, то и вообще бы никогда они ничего друг другу не сказали. Только увидав его, раздавленного, изломанного, потерявшего силы, она смогла прийти к нему. В эти недели она была сильнее Лаврентьева. Она и пришла как сильная к слабому, уехав из колхоза при полном одобрении Антона Ивановича и Дарьи Васильевны.
«Близкий рядом — ему отрадно будет», — говорила тогда Дарья Васильевна.
«Авось свояками с Дементьичем станем», — по–своему повернул Антон Иванович.
Пришла Клавдия как сильная к слабому, а ушла… Ей уже было всё равно. Она знала, что любит, любит всепоглощающей любовью, и надо ли считаться — кто сильней, кто слабей.
Были долгие разговоры и долгие часы молчания в сумерках. Лаврентьев брал ее руку, прижимал ладонью к щеке. Она замирала, чуть ли не теряя сознание, и не могла ни на что решиться. Злилась на себя, злилась на него. Она в отчаянии прижалась однажды к его лбу своим лбом, по–девчоночьи; совсем рядом перед его глазами были ее полные страха и тревоги, расширенные зеленые глаза. Но он их не видел, — видел лишь золотое шелковистое сияние, упавшее ему на лицо, и вдыхал его теплый запах.
Тогда она сказала, что уедет, — неизвестность была сверх ее сил. Лаврентьев взглянул через окно на весеннее небо, на грачей, которые строили гнезда среди ветвей черных лип в парке, и неожиданно привлек ее к себе, испуганную, ошеломленную, счастливую. Она, как тогда в поле, была возле его груди и слышала стук его сердца…
Ни врачи, ни сестры, ни сиделки не мешали им. Заведующий отделением, старый, наголо обритый доктор медицинских наук, носивший белую полотняную шапочку, сказал ординатору:
— Пускай шепчутся. Скорей на ноги встанет.
За несколько дней до отъезда Клавдии проведать Лаврентьева зашел Карабанов, принес с собой запах улицы, шум, шутки. Его вызвали в обком.
— Ох, беды ты нам наделал, Дементьевич, — сказал он, усаживаясь на скрипнувший. больничный стул; был какой–то смешной, похожий на повара в коротком, халате, завязанном на спине. — Уперлись твои земляки: подай им Лаврентьева, да и только. Мы и так и этак, болен, мол, человек, можно ли выдвигать при полной такой неизвестности? Извини за прямоту, положение твое считалось безнадежным. Я каждые три дня звонил сюда главному врачу, справлялся. Объяснял народу. Нет, говорят, ничего знать не хотим: Лаврентьева. Портрета, отвечаем нету, перед избирателями выступать не может. «Без портрета обойдется, выступать — достаточно выступал». Что ты скажешь! Вот по поручению окружной комиссии привез тебе удостоверение. Депутат районного Совета! Дарью Васильевну сменил. Ее, знаешь, в члены райкома избрали.
— Столько событий без меня! — Лаврентьев взволнованно разглядывал депутатское удостоверение. Он представил, как там, в Воскресенском, а может быть, и в совхоза, в соседних селениях за него агитировали Дарья Васильевна с Антоном Ивановичем, Ася с Павлом Дремовым, Нина Владимировна; как они доказывали: только Лаврентьева, и никого больше, — и растрогался. Клавдия недовольно сказала:
— Никита Андреевич, товарищ Лаврентьев еще болен, ему нельзя волноваться, а вы нарочно всякие такие вещи рассказываете…
— Ишь ты, гляди, какая строгая! — восхитился Карабанов. — Гляди, какую официальщину разводит: товарищ Лаврентьев! Да я еще не то сейчас твоему товарищу Лаврентьеву расскажу. — И принялся обстоятельно рассказывать о делах в Междуречье. Тут и Клавдия заслушалась, давно не была дома, от дел колхозных оторвалась, — и ее и Лаврентьева потянуло вдруг на Лопать.
— Счастливая вы, Клавдия, — вздохнул после ухода Карабанова Лаврентьев. Он еще не мог решиться говорить ей «ты». — Поедете. А мне сколько тут валяться, кто знает…
Она только молча взяла его руки в свои ладони.
Уехала Клавдия, дав бесчисленные наставления сестрам, санитаркам и даже ординатору, как ухаживать за Лаврентьевым, как беречь его. Всем она говорила: «Знаете, — депутат». К чему было это «депутат», она и сама не знала. Может, заботиться больше станут. Для нее же он был никакой не депутат, а самый дорогой на свете человек; которого она даже в мыслях называла Петром Дементьевичем. Всякие уменьшительные — Петя и Петенька — ей претили. Не подходил под такие имена он, ее Петр Дементьевич.