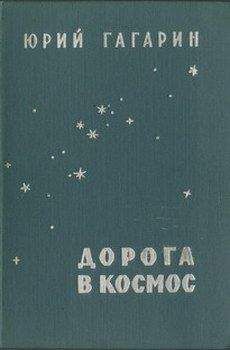Вале мешают эти мысли, она и так не может сосредоточиться на проклятом учебнике анатомии. Особенно угнетают ее латинские названия, в голове сумбур. Она провалит экзамен. Валю бросает в жар и холод. Она самолюбива и к тому же ужасная трусиха — боится экзаменаторов, как сопливая девчонка.
С улицы то и дело доносится слабый постук, сопровождаемый тонким скрежетом, царапанием, — это слепцы идут в школу, занимающую нижний этаж дома. И, не глядя на Юру, Валя знает, как напрягаются его зрачки всякий раз, когда раздаются стук и шорох палки, ощупывающей асфальт мостовой и плитняк тротуара. Насилие болезни или несчастного случая над человеком причиняет ему боль. Мертвые очи, задранная вкось голова, палочка-щуп возмущают его сильное, здоровое существо, словно злобная несправедливость, с которой он бессилен бороться.
Нет, она не выучит урока — анатомия и так дается ей трудно, а тут еще тревожащее присутствие другой, близкой жизни.
— Ты что же, всю увольнительную намерен тут проторчать? — Она говорит нарочно грубо, чтобы отрезать себе путь к отступлению.
— Неужели ты никогда не выучишь эти несчастные кости?
— Во-первых, мышцы, а не кости, и, во-вторых, не твое дело.
— Ну разве можно так готовиться? Зачем ты десять раз долбишь одно и то же! Прочти раз, но внимательно.
— Какая самоуверенность! Что ты вообще понимаешь в медицине?
— А это мы сейчас проверим. — И ловким движением он выхватил у нее учебник. — Мышцы рук?.. — Он закатал рукава зеленой рубашки и стал прощупывать свою сильную загорелую руку, что-то бормоча про себя. — Пожалуйста. — Он вернул ей учебник. — Мышцы руки обеспечивают пять типов движения: вращение, поворот внутрь и наружу, сгибание и разгибание. Мышцы сгибания находятся на внутренней стороне руки, разгибания — на внешней. Мышцы, управляющие поворотом, напоминают винтовую лестницу. Вращение по-латыни будет ротация, следовательно, и мышцы…
— Довольно!.. Довольно!.. — Валя зажала уши. — У тебя чудовищная механическая память.
— Ничего подобного! Просто я стараюсь ухватить смысл, а не слова. Нет ничего хуже зубрежки…
— Ну, знаешь!.. — Она и сердится, и немного завидует, и вместе с тем не может не восхищаться его ясным и цепким умом. К тому же вдруг все запомнила.
Словно оказывая ему величайшее снисхождение, она сказала:
— Ладно, хочешь, пойдем в парк?
— Давай лучше дома посидим.
Это ее удивило — Юра не выносил комнат, всегда стремился на улицу, за город.
— Мне скоро надо в часть, — сказал он в свое оправдание.
— Вас перевели на летние квартиры? — спросила она осторожно.
— Да… Это довольно далеко, и никакого сообщения.
— Как же ты сюда добирался?
— Пешком.
— И обратно пешком?
Он глянул на часы и улыбнулся:
— Нет, бегом.
— Бегом?
— А что такого? Я же неплохо бегаю кроссы…
«Лишь много времени спустя, — рассказывает Валентина Ивановна, — я узнала, что Юре предстояла марафонская дистанция: тридцать пять километров».
Свадьбу играли в доме Горячевых. Звучит громко, а состоял этот «дом» из одной-единственной, правда, большой комнаты, где обитала вся Валина семья. Раздвинули обеденный стол, другой у соседей одолжили да еще кухонный приставили, а все равно не хватает мест по числу ожидаемых гостей: многочисленной родни, невестиных подруг, друзей жениха, молодых военлетов. Сняли с петель дверь и положили на козлы, накрыли белой крахмальной скатертью — чем не стол? Только у Дергунова все рюмка падала, его место как раз против дверной ручки пришлось. А может, он нарочно заставлял рюмку падать — для веселья? Было много хороших слов, и тостов, и криков «Горько!», а вершиной праздника явились, конечно, беляши, приготовленные искусными руками Валиного отца, шеф-повара. Но, в общем, застолье получилось нешумное, серьезное, словно бы задумчивое. Это объяснялось и строгим достоинством невесты, и тем, что новоиспеченные лейтенанты еще не привыкли к своим необмявшимся офицерским кителям, и предстоявшей им скорой разлукой — в разные концы земли разлетались старые товарищи, и только что переданным по радио сообщением о полете второго спутника с собакой Лайкой на борту.
Перед беляшами у летчиков произошел даже не совсем уместный на свадьбе спор, кто первым из людей полетит в космос.
Большинство сходилось на том, что пошлют какого-нибудь выдающегося ученого, академика.
— Академики все старики, а там нужен молодой, здоровый, — возражал румяный лейтенант Ильин.
— Бывают и академики молодые!..
— Редко и все равно дохляки. Пошлют врача, чтобы проверить, как космос на организм влияет.
— Пошлют подводника! — выпалил Дергунов.
Все засмеялись. Думали, Дергунов по обыкновению «травит». Но он был серьезен.
— У подводников самый приспособленный к перегрузкам организм.
— Пошлют летчика-испытателя! — убежденно сказал Гагарин.
— С чего ты взял?..
— Думает, его пошлют!..
— При чем тут я?.. Поймите, человека не пошлют в космос пассажиром, как собачку Лайку. От космонавта потребуется умение водить космический корабль, а это под силу только летчику.
— Твоими бы устами мед пить!..
— Все равно мы устареем к тому времени!..
Тут подоспели беляши, и спор прекратился.
Отгорела, погасла скромная свадьба и снова вспыхнула уже на гжатской земле, в доме Гагариных. Так было решено с самого начала — играть свадьбу дважды. Неуемный во дни былые странник, Алексей Иванович стал неподъемен для больших путешествий, да и не было таких капиталов, чтоб всей семьей катить в далекий Оренбург.
Сердечно приняла Валю новая семья.
— Чтоб у вас радость и горе — все пополам! — сказала Анна Тимофеевна и обняла невестку.
А за праздничным столом разговор опять свернул на космонавтику, хоть присутствовал тут народ сугубо и крепко заземленный.
— Юра, что у вас говорят насчет космоса? — крикнул через стол старший брат Валентин. — Скоро ли человека пошлют?
— Разное говорят. По-моему, скоро.
— О чем вы там? — поинтересовался хозяин стола Алексей Иванович.
— Юрка говорит, скоро человека в космос пошлют.
— Куда? — строго спросил Алексей Иванович. Слово еще не было на слуху, как сейчас, и потребовал: — Уточни!
— Ну, в мировое пространство… Ближе к звездам…
— Так бы и говорил! — Он серьезно сдвинул лохматые брови. — Очень даже свободно… И главное — найдется такой дурак…
Застолье грохнуло, как духовой оркестр по знаку капельмейстера. Старик Гагарин недоуменно оглядел смеющиеся лица и, чего-то вдруг смутившись, поправился:
— Чудак, говорю, такой найдется…
Но все продолжали смеяться, и громче, веселее всех — Юрий. И почему-то вдруг невесело, почти жутко стало Алексею Ивановичу, будто съежилась в нем душа от грозного предчувствия. Он глядел в лицо сыну, в глаза, в самые зрачки, в них приютилась ночь, не здешняя, не гжатская, не земная — привычная, а страшная ночь чужого, неведомого пространства. Как проникло это ночное в его веселого, радостного сына?..
— Хватит ржать, — сказал он тихо и таким странным голосом, что все разом оборвали смех. — Нам легко тут языки чесать… А каково будет этому… который к звездам?.. Один… Нам с ним, конечно, хлеб-соль не водить, но давайте выпьем за его здоровье…
Они трудно и хорошо служили у северной нашей границы, где низкие сопки, поросшие соснами-кривулинами, и гладкие валуны, где полгода длится ночь и полгода — день. Небо над этой суровой землей помнило Курзенкова, Хлобыстова, Сафонова — бесстрашных героев минувших битв. Впрочем, небо — великая пустота — ничего не помнило, а вот молодые летчики отлично знали, на чье место пришли.
Они учились летать во тьме полярной ночи, в туманах занимающегося бледного полярного дня, а когда простор налился блеском неподвижного солнца, у них прорезался свой летный почерк.
Впервые об этом сказал вслух скупой на похвалы Вдовин, заместитель командира эскадрильи. Юра Дергунов вел тогда тренировочный бой с кем-то из старших летчиков, проявляя прямо-таки возмутительную непочтительность к опыту и авторитету маститого «противника».
— Неужели это правда Дергунов? — усомнился Алексей Ильин.
— Не узнаете почерк своего друга? — через плечо спросил Вдовин.
— Ого! У Юрки, оказывается, есть почерк?
— И весьма броский! Смотрите, как вцепился в хвост!.. — Вдовин повернулся к молодым летчикам. — У каждого из вас уже есть свой почерк, может быть, не всегда четкий, уверенный, но есть…