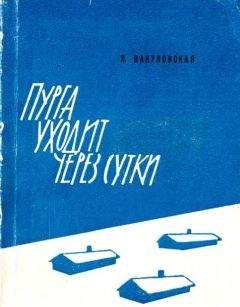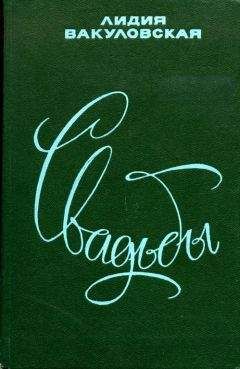— Ай-я-яй, — сказала Оля. — Как же так? Утром радиограмма пришла — и лежит. Катя дежурство сдала и не сказала, — Оля держала в руках радиограмму.
— Кому пришла? — спросил Коля.
— В больницу, доктору.
Коля подошел к сестре. Та вертела в руке запечатанную по всем правилам радиограмму: только адрес виден.
— Почитаем, — сказала Оля, — может, не очень важная. — И она царапнула ногтем по ленточке, склеивавшей радиограмму.
— Нельзя, — решительно сказал Коля. — Чужие новости нельзя читать.
Сестра удивленно посмотрела на него.
— Почему нельзя? А если бы я принимала?
— Ты не принимала, поэтому нельзя.
Не слушая его, Оля разорвала ленточку. В тот же миг Коля выхватил у нее бумажку, сунул за пазуху. Узкие черные глаза его стали вдруг злыми, огнистыми.
— Нельзя читать! — крикнул он. — Это важная новость! Сама забыла, а доктор ждет! Я там был, знаю: они самолет ждут!
— Самолет? — Оля засмеялась. — Кто прилетит сейчас? Такая пурга три дня идет. В такую пургу лучше печку топить и спать.
И тут Коля вспомнил: доктор говорила об угле. Доктор говорила, что в больнице кончается уголь, осталось совсем мало. Доктор собиралась идти в правление, договариваться, чтобы привезли уголь. Но она, конечно, не успела, потому что началась пурга. Как же так? Он сидит, читает, а там, может, все замерзают. Там девушка, за которой так и не пришел самолет.
— Оля, — как-то жалобно сказал Коля. — У доктора нет угля. Там очень больная девушка… Я возьму мешок в кладовке, отвезу…
— Сейчас?!
— А если больная девушка замерзнет? — спросил он.
— Ты не дойдешь.
— В коридоре — нарты. Если положить уголь на нарты и толкать…
— Ты не дойдешь, — упрямо повторила сестра.
«Если не дойду — не стану хорошим охотником, — вдруг подумал Коля — Если не дойду — не увижу тайгу и деревья». И он спокойно, с упорством настоящего мужчины сказал:
— Я дойду. Только ты помоги мне положить уголь в мешок.
— Слышишь? — Оля скосила глаза на печку.
Можно было и не показывать. Выло не только в печке. Выло на чердаке, и казалось, что там бегают олени, стучат в потолок копытами. Выло за окном, а по стенам кто-то все время колотил палками, будто выбивал тяжелые медвежьи шкуры.
— Женщины всегда боятся, — неожиданно сказал Коля. — В тайге, когда идет гроза, тоже страшно. Но мужчины не боятся. Иди и помоги мне взять уголь.
Оля смотрела на брата. И когда это он так вытянулся? Уже выше нее! Совсем недавно у него были узкие, костлявые плечи. Теперь плечи залезли прямо в рукава пиджачка, а воротник рубашки совсем не сходится на шее. Неужели ее брат уже настоящий мужчина?..
— Я сейчас, — сказала Оля.
Пурга ломится в гостиницу…
Вот-вот она высадит окна. Вот-вот снимет с петель двери. Вот-вот прошибет своим ледяным лбом стены. Вот-вот она разбудит людей. Но умаявшиеся в дороге люди крепко спят.
Спит бабушка в теплой кацавейке. Спит ее дочь, чья-то молодая жена. Спит туго запеленатый сынишка бабушкиной дочери. Спит начальник автобазы, возвращающийся из отпуска. Спит ответственный торговый работник, летавший по делам в Москву… Спят, забыв о пурге, все обитатели гостиницы. Спят все, кроме двоих. И пока все спят, никто третий в огромном мире не знает, что делают эти двое. Никто этого не знает, кроме них самих…
— …Туп, туп… Туп, туп…
Шаги удаляются от двери. Минута — и снова под дверью:
— Туп, туп… Туп, туп…
«Чертов грузин! — мысленно ругается Редька. — Все пассажиры как пассажиры: устроились себе и спят. А этот — третий час шатается по коридору».
При каждом «туп, туп» Редька оглядывается на дверь, ждет, пока удалятся шаги, и снова берется за бумаги. В кои веки выдался у него свободный день — (спасибо пурге!), — в кои веки решил привести в порядок свое бумажное хозяйство: проверить счета, накладные, составить нужные заявки, а тут — радуйтесь! От этого «туп», «туп» уже трещит голова и нет никакой возможности сосредоточиться.
— Туп, туп… Туп, туп…
«Вот и поработай!» — Редька выжидательно смотрит на дверь.
— Туп, туп… Туп, туп…
Тарас Тарасович поднимается, выходит из комнаты.
Спина грузина — в глухом конце коридора. Редька идет в другой конец коридора — на кухню. Смотрит на термометр, торчащий из котла. В доме водяное отопление. Неплохо — девяносто градусов. Заглядывает в топку. Тоже неплохо. Пламя гудит вовсю, низ котла охвачен голубыми языками.
«Видать, кочегарил», — думает Редька о грузине.
В коридоре они сталкиваются.
— Товарищ Борода…
— Вы бы отдыхали, гражданин, — как можно вежливее говорит Редька. — Люди уже спят давно.
— Зачем спать? — искренне удивляется грузин. — Дома моя мама сейчас обед собирает, чехохбили на стол ставит, думает: где мой Ясон, мальчик дорогой?
— Волнуется мама? — покоренный открытой улыбкой Ясона, любопытствует Редька.
— Разве есть на свете мама, которая не волнуется о своем мальчике?
И вдруг Ясон изменил тему:
— Товарищ Борода, — он взмахнул рукой, и его часы, сдвинутые на запястье, очутились перед глазами Редьки, — через пять минут десять. Отбросить десять — получаем двенадцать. В Москве куранты бьют. У тебя приемник есть, зови меня последние известия слушать. — И, не дожидаясь приглашения, Ясон взялся за ручку двери.
В приемнике трещало и скрипело. Совсем глухо, будто со дна пропасти долетали голоса: мужской и женский.
— …Хрущев возвратился из Казахстана — проводил совещание хлопководов…
— …В Кустанайском крае идут дожди, совхозы продолжают вывозить на элеваторы хлеб…
— …Бригада Николая Мамая выдала на-гора двести тонн угля…
— …В Киев прибыла польская делегация. В первый день посетила краеведческий музей, в оперном слушала «Богдана Хмельницкого»…
Сообщение о делах в стране сменила зарубежная информация. Москва, очень далекая, еле слышимая Москва передавала о том, что делается в мире…
— Да-а-а, — произнес Редька, потихоньку теребя бороду — Неспокойно живется на земле, — Помолчал. — Еще не известно, как решится берлинский вопрос. Начнут из-за него атомную…
— Зачем начнут? — Ясон потряс копной смоляных волос. — Совсем не начнут. Во всяком случае, я не хочу, чтоб начинали. Ты тоже не хочешь. Раз никто не хочет — войны не будет.
— Так-то оно так, — неторопливо промолвил Редька, — Только еще никто не спрашивал у противника разрешения начать войну. И ни в какие времена противники не согласовывали вопрос о ее начале. Бухнут — значит, началась.
— Извини меня, товарищ Борода, — сказал Ясон, — я не люблю о войне говорить. Лучше песню слушать.
Ясон крутнул регулятор, в приемник неожиданно ворвалась громкая музыка. Ясон прищелкнул языком, прикрыл глаза, мечтательно протянул:
— «Аида»… Красивая музыка!
Он перевел регулятор, звук стал тише. И долго сидел, не шевелясь, закрыв глаза, слушал.
Когда замерли последние аккорды и приемник зашипел, точно в середине его жарилась на сковороде картошка, Ясон открыл глаза, поднялся.
— Люблю оперу, — негромко сказал Ясон. — Море звуков. Нырнешь, а дна нет. — И вдруг, будто очнувшись, весело произнес: — Верь мне, товарищ Борода, берлинский вопрос мудро решат.
— А ты сиди, — неожиданно для самого себя сказал Редька. — Рано еще спать.
— Спать не буду, — ответил Ясон, — Лежать буду, думать, — Он протянул Редьке руку, — Спасибо за известия.
У порога Ясон остановился:
— Скажи, пожалуйста, сколько такая пурга будет.
— Чукчи так говорят, — охотно откликнулся Редька. — Не ушла к концу третьих суток, прибавляй еще трое суток. Не ушла к концу шестых — накинь еще трое. На десятый день обязательно пропадет. Но будем надеяться, что эта больше трех дней не продержится. Сразу вас и отправим, задерживать не станем.
— Зачем сразу? — Ясон отошел от порога. — Держи хоть целый день! Мне в больницу идти надо, Юлю Плотникову видеть. Ты задержи самолет, пожалуйста.
Редька улыбнулся в бороду — ему явно начинал нравиться этот чудаковатый парень, — развел руками:
— Ничего не поделаешь: это не мое право.
— По-твоему, я в Северном буду — Юлю не увижу!
— По-моему, так.
— Ты, товарищ Борода, не знаешь Ясона Бараташвили. — Ясон заметно волновался.
— Не знаю, — подтвердил Редька.
— Ясон получил сорок дней отпуска. И Ясон оказал маме: у тебя есть сын Коста, мой младший брат. Коста служит в армии и не имеет отпуска. Я полечу к Косте посмотреть, как он живет и служит. Моя мама всегда плачет, когда дети собираются в дорогу, даже если дети едут к бабушке Шалико за двадцать километров от Тбилиси. Этот раз мама плакала всю неделю. Но я уехал. Отпуск имею сорок дней, прошло десять. Я не полечу этим самолетом. Отдыхай, товарищ Борода.