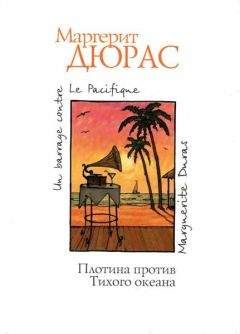Однако не в Блатыге дело. Взяв Ванюшин пистолет, я повел Костика, Саню и Дундука за кроликами.
Клетки стояли рядом с ближайшим жилым домом. От лагеря надо было пройти шагов двести. Издали крольчатники выглядели ветхими, но оказалось, что сделаны они и заперты надежно. Я с пистолетом смотрел за входом в дом, Саня и Дундук пытались бесшумно взломать дверцы, а Костик давал советы им и мне.
Пистолет нехорошо его волновал. Костик говорил Сане и Дундуку:
— Что шепчетесь? Шепотом все равно не откроете. Стукни, чтобы сразу развалился!
— Сам стукни! — рассердился Дундук. Он поцарапал о проволочную сетку палец и отсасывал из ранки кровь.
В крольчатнике было темно и тихо. За дверцей никто не подавал признаков жизни. Спичек или фонарика не было. И стало казаться, что там никого нет. Когда, просунув руку под оторванную проволоку, Саня вытащил какой-то комок, я даже вздрогнул.
— Держи! — протянул он кролика мне и опять полез рукой. — Еще один. Наверно, крольчиха.
Я ожидал сопротивления, но кролик не шевелился.
— За уши! — сказал мне Саня.
Живое тепло быстро прогрело руку и грудь. Чтобы избавиться от этого ощущения, я взял кролика за уши и отстранил от себя.
— Еще ломать? — спросил Саня.
— Нашумели! — сказал я.
Костик усмехнулся в темноте.
— Четверо ходили, двух кроликов принесли. Он был прав. Перед освобождением в лагере больше месяца почти совсем не было еды. Двух кроликов мало.
— Ночь длинная, — угрюмо сказал Василь Дундук, — дорогу покажем. Пусть сами ломают.
Переживания все-таки утомили нас, и мы двинулись в лагерь.
— Засмеют, — сказал Костик.
Все с подозрением оглянулись на него. Когда вокруг нас в бараке соберутся люди, Костик возмущенно всплеснет руками и скажет: «Я ж говорил! Уважающий себя человек за двумя кроликами не пойдет!» И это прозвучит у него, как у блатного.
— Сам бы и ломал, — сказал Василь.
— А ты, Дундук, тут зачем?
Василь засопел. Этот слабый Костик раздражал его больше, чем других.
Однако в бараке было мало людей. Почти все перешли ночевать на улицу. Только Иван Шахтер, свесившись со своих нар, посмотрел на нас.
— Варить? Или жарить?
— Тебе, Шахтер, все равно не перепадет, — сказал Костик.
Живое тепло и от ушей проникало в руку. Шахтер сказал:
— Мой сосед-крольчатник двумя пальцами их убивал. Возьмет за уши и двумя пальцами по носу.
Все по очереди попробовали. Была надежда, что жизнь в этих зверьках непрочна.
К утру, однако, кролики были сварены, съедены, остатки, чтобы скрыть следы, закопаны, а мы расхвастались по лагерю, как ходили, ломали клетки, как щелкали кроликов, а они только жмурились, как Костик сказал Шахтеру:
— Чтобы тебя Блатыга двумя пальцами по носу щелкнул!
Пока возились с кроликами, я заметил, что в окно проникает солнце. Это меня удивило, потому что до этого я как будто бы и самого барачного окна не замечал.
Окно открыли, я высунулся наружу, увидел над собой мост и немцев, идущих по мосту. Тогда я взял винтовку и прицелился. И все было не очень страшно, пока не появился Блатыга.
Он сразу захотел получить свой должок. Жизнь Блатыги была теперь в непрерывном отвоевывании престижа. Он не просто хотел иметь пистолет — не мог допустить, чтобы «вальтер» был у Шахтера. И в той игре, которую я затеял, ему сразу надо было стать главным. Чтобы и все слышали, как он командует:
— Давай! Уйдет!
Как будто и не было совсем недавно удачливого и смешливого Кольки со здоровьем в широких плечах, с азартным блеском глаз, которого лишь в шутку звали Блатыгой и который так весело орал: «Эх, тумба, тумба, Исаакиевский собор!»
Задолжал я ему жестокость. Каждому, кто хоть как-то знает блатных, это понятно. Нет смелости — покажи жестокость. Нет ума — найди силы на нее же. Хочешь быть не слабее других, не умом сравнивайся с ними, не добротой — жестокостью.
Я тоже бил кролика двумя пальцами по носу. Надеялся, что жизнь оставит зверька легко. Но жизнь была прочна. И теперь меня мутило. И, когда с пистолетом охранял Саню и Василя, ломавших клетки, не знал, как поступлю, если появится хозяин. Три года не сомневался, на третий день свободы заколебался.
Винтовку я взял, чтобы попугать собственную слабость. Пришла минута расквитаться, которую так долго ждали, перед которой клялся страданиями миллионов людей. И немец, в которого я целился, несомненно, был фашистом. Ни в повадке, ни в партийных усах не мог я ошибиться. И возмущенные крики его жены и сына только возбуждали мою память.
— Пацыр! — сказал мне Блатыга, когда немец прошел мост. — Не можешь — не берись.
История эта не забылась. Но я ее никому не рассказывал. Что ж рассказывать, если выстрела не было! Отцу, однако, не мог рассказать совсем по другим причинам. Хотел было, но почувствовал, что это почему-то невозможно.
Я не догадывался, какая сила в этой самой невозможности.
Через много лет история эта вдруг обессилит меня воспоминанием. И облегчение будет как при нечаянном избавлении. Уже было оступился, но вдруг услышал в темноте то, что и услышать нельзя — дыхание глубины.
Тогда, однако, главным ощущением была досада на слабость. Мог ее не показать, но ведь сам затеял непосильную игру. И должок Блатыге увеличился. Долг блатным всегда растет, а не остается тем же самым. И Костику позволил презрительно хмыкнуть.
Но самое досадное — обнаружил, что слишком слаб для возмездия. Оказалось, оно требует сил, которых у меня нет. Это было открытием. Три года ненавистью клялись. Возмездие казалось не только желанным, облегчающим — обязательным. Без него не вернуть власть над собственной судьбой. Да что там! Дышать будет нельзя…
И вот не могу выстрелить.
К тому же я «выставился». На глазах у всех схватился, да не удержал — рукам горячо! Другие не суетились, не лезли и теперь могут смеяться надо мной. Но еще хуже — сам же углубил пропасть между собой и собственной судьбой. Все обернулось стыдом. А стыд обостряет жажду возмездия.
В сорок втором году по дороге в Германию в Познани была дезинфекция и проверка на венерические заболевания.
Это было первое массовое унижение, которому нас подвергли.
Через коридор, в котором мы раздевались, гнали голых женщин. Смущавшихся, приостанавливавшихся полицейские хлопали ниже спины. В пару и дыму нас били резиновыми палками солдаты-дезинфекторы. С резиновой палкой к нам выбегал молодой, с офицерской выправкой врач. В кабинет к нему загоняли по десять человек.
Лицом к нам у окна стояла немка, даже в тот момент показавшаяся мне ослепительно красивой. На ней не было халата. По небрежной позе, в которой она оперлась о подоконник, было понятно, что к медицине она не имеет отношения.
Врач строил нас шеренгой. Под халатом у него был мундир, в руках что-то вроде длинного деревянного пинцета, которым из выварки достают кипящее белье. По-русски он не говорил.
Он показывал нас немке, а она пришла на нас смотреть.
— У этих уже были женщины, а у этого еще нет, — сказал он, когда подошла моя очередь.
Он сказал по-немецки гораздо грубее. Некоторые поняли, повернулись ко мне и засмеялись.
В дорогом костюме немки, в ее шелковых чулках, в позе была невыносимая, возмутительная в этом месте праздность. Ее женская привлекательность была еще ужаснее белого халата на военном мундире врача. Разглядывая нашу шеренгу, слушая солдатские шуточки, она, должно быть, чувствовала, как наше внимание, прикованное к врачу, переходит на нее. И во взгляде, который она старалась сделать ледяным, отражалось это понимание.
Нас сталкивали в бездну. Но больше всего в этот момент меня мучил стыд. Ранил и смех напарников. Униженные, они будто напрашивались на невозможный для них мгновенный союз с немкой и врачом. Преимущество, которое, стоя босиком на мокром полу, они праздновали, быть может, невольным смехом, обнаружилось, когда с нас всех содрали одежду.
— Лос! — погнал нас врач дальше.
И все потонуло бы во множестве таких же мучительных эпизодов, которые уже были со мной и которые еще только предстояли, если бы не эта немка и не этот стыд. Он, несомненно, был связан со всей жизнью. И действовал даже в опасных для нее обстоятельствах. Его можно было пережить. Но, кажется, не было испытаний, на которые я не пошел бы, чтобы избежать этого унижения.
Хотя, с какой стороны ни посмотри, стыдиться было нечего. Пятнадцатилетний, я стоял со взрослыми. И смеялись они не зло. К тому же был и такой способ справиться с обстоятельствами — считать их невероятную жестокость нормальной. Были люди, голос которых грубел на глазах. «А ты что думал!» — словно ликовали они. Оживление их не гасло, даже когда им самим попадало дубинкой. «Что мы за цацы! Если не нас, так кого же бить!» Словно торжествовали какую-то давнюю догадку о жизни. Их бескорыстное холуйство было мне странно и ненавистно. Будто в исступлении они на время теряли слух, зрение и чувствительность кожи. Но ликовали недолго. Немцы учили быстро.