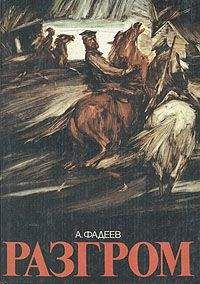Он мог бы, например, напомнить Мечику, как тот жадными руками цеплялся за него на ячменном поле, как в обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую жизнь. Он мог бы жестоко высмеять любовь Мечика к кудрявой барышне, портрет которой, может, еще хранится у него в кармане пиджака, возле сердца, и надарить эту красивую, чистенькую барышню самыми паскудными именами… Тут он вспомнил, что Мечик ведь «спутался» с его женой и навряд ли оскорбится теперь за чистенькую барышню, и вместо злорадного торжества над унижением противника Морозка снова чувствовал свою непоправимую обиду.
…Мишка, разобиженный вконец несправедливостью хозяина, бежал до тех пор, пока в натруженных губах не ослабели удила; тогда он замедлил ход и, не слыша новых понуканий, пошел показно-быстрым шагом, совсем как человек, оскорбленный, но не теряющий собственного достоинства. Он не обращал внимания даже на соек, — они слишком много кричали в этот вечер, но, как всегда, попусту, и больше обычного казались ему суетливыми и глупыми.
Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в рдяные ее просветы, прямо в лицо, било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело, — так непохоже на соечью людскую суету. Гнев Морозки остыл. Обидные слова, которые он сказал или хотел сказать Мечику, давно утратили мстительно-яркое оперение, предстали во всей своей общипанной неприглядности: они были ненужно-крикливы и легковесны. Он сожалел уже, что связался с Мечиком — не «выдержал марку» до конца. Он чувствовал теперь, что Варя вовсе не так безразлична ему, как это казалось раньше, и вместе с тем твердо знал, что никогда уже не вернется к ней. И оттого, что Варя была наиболее близким человеком, который связывал его с прежней жизнью на руднике, когда он жил, «как все», когда все казалось ему простым и ясным, — теперь, расставшись с ней, он испытывал такое чувство, точно эта большая и цельная полоса его жизни завершилась, а новая еще не началась.
Солнце заглядывало Морозке под козырек — оно еще стояло над хребтом бесстрастным, немигающим глазом, но поля вокруг были тревожно-безлюдны.
Он видел неубранные ячменные снопы на недожатых полосах, бабий передник, забытый второпях на суслоне (Суслон — составленные на жнивье снопы.), грабли, комлем воткнутые в межу. На покривившемся стогу уныло, по-сиротски, примостилась ворона и молчала. Но все это проплывало мимо сознания. Морозка разворошил давнишнюю слежавшуюся пыль воспоминаний и обнаружил, что это совсем не веселый, а очень безрадостный, проклятый груз. Он почувствовал себя заброшенным и одиноким. Казалось, он сам плывет над огромным вымороченным полем, и тревожная пустота последнего только сильней подчеркивала его одиночество.
Очнулся он от дробного конского топота, внезапно вырвавшегося из-за бугра. Едва вскинул голову — перед ним выросла стройная, перетянутая в поясе фигурка дозорного на глазастой бедовой лошадке, — от неожиданности она так и села на задние ноги.
— Ну, ты-ы, кобло, вот кобло!.. — выругался дозорный, поймав на лету сбитую толчком фуражку. — Морозка, что ли? Вали скорей до дому, до дому вали: там у нас такое — не разбери-поймешь, ей-богу…
— А что?
— Да дезертиры тут прошли, наговорили цельный воз, цельный воз — японцы-де вот-вот будут! Мужики с поля, бабы в рев, бабы в рев… Нагнали у парома телег, что твой базар, — потеха!.. Мало паромщика не убили, доси поди всех не переправил — нет, не переправил!.. А Гришка наш сгонял верст за десять — японцев и слыхом не слыхать, не слыхать — брехня. Набрехали, суки!.. Стрелять за такие дела — и то патронов жалко, и то жалко, ей-богу… — Дозорный брызгал слюной, размахивал плетью и то снимал, то надевал фуражку, лихо потряхивая кудерьками, словно, помимо всего прочего, хотел еще сказать: «Смотри, дорогой, как девки меня любят».
Морозка вспомнил, как месяца два тому назад этот парень украл у него жестяную кружку, а после божился, что она у него «еще с германского фронта». Кружки было не жаль теперь, но воспоминание это — сразу, быстрей слов дозорного, которого Морозка не слушал, занятый своим, — втолкнуло его в привычную колею отрядной жизни. Срочная эстафета, приезд Канунникова, отступление Осокина, слухи, которыми питался отряд последнее время, — все это хлынуло на него тревожной волной, смывая черную накипь прошедшего дня.
— Какие дезертиры, чего ты трепишься? — перебил он дозорного. Тот удивленно приподнял бровь и застыл с занесенной фуражкой, которую только что снял и снова собирался надеть. — Тебе бы только фасон давить, женя с ручкой! — презрительно сказал Морозка; сердито дернул под уздцы и через несколько минут был уже у парома.
Волосатый паромщик, с подвернутой штаниной, с огромным чирьем на колене, и впрямь замучился, гоняя перегруженный паром взад и вперед, и все же многие еще толпились на этой стороне. Едва паром приставал к берегу, на него обрушивалась целая лавина людей, мешков, телег, голосивших ребят, люлек — каждый старался поспеть первым; все это толкалось, кричало, скрипело, падало, — паромщик, потеряв голос, напрасно раздирал глотку, стараясь водворить порядок. Курносая баба, успевшая лично поговорить с дезертирами, терзаемая неразрешимым противоречием между желанием скорее попасть домой и досказать свои новости остающимся, — в третий раз опаздывала на паром, тыкала вслед громадным, больше себя, мешком с ботвой для свиней и то молила: «Господи, господи», то снова принималась рассказывать, чтобы опоздать в четвертый раз.
Морозка, попав в эту сумятицу, хотел было, по старой привычке («для смеху»), попугать еще сильнее, но почему-то раздумал и, соскочив с лошади, принялся успокаивать.
— И охота брехать тебе, никаких там японцев нету, — перебил вконец осатаневшую бабу, — расскажет тоже: «Га-азы пущают…» Какие там газы? Корейцы, может, солому палили, а ей — га-азы…
Мужики, забыв про бабу, обступили его, — он вдруг почувствовал себя большим, ответственным человеком и, радуясь необычной своей роли и даже тому, что подавил желание «попугать», — до тех пор опровергал и высмеивал россказни дезертиров, пока окончательно не расхолодил собравшихся. Когда причалил следующий паром, не было уже такой давки. Морозка сам направлял подводы по очереди, мужики сетовали, что рано уехали с поля, и, в досаде на себя, ругали лошадей. Даже курносая баба с мешком попала наконец в чью-то телегу между двумя конскими мордами и широким мужичьим задом.
Морозка, перегнувшись через перила, смотрел, как бегут меж лодок белые кружочки пены — ни один не обгонял другого, — их естественный порядок напомнил ему, как сам он только что сорганизовал мужиков; напоминание это было приятно.
У поскотины он встретил дозорную смену — пятерых ребят из взвода Дубова. Они приветствовали его смехом и добродушной матерщиной, потому что всегда были рады его видеть, а говорить им было не о чем, и потому еще, что все это были здоровые и крепкие ребята, а вечер наступал прохладный, бодрый.
— Катись колбаской!.. — проводил их Морозка и с завистью посмотрел вслед. Ему захотелось быть вместе с ними, с их смехом и матерщиной — вместе мчаться в дозор прохладным и бодрым вечером.
Встреча с партизанами напомнила Морозке, что, уезжая из госпиталя, он не захватил письма Сташинского, а за это может попасть. Картина сходки, когда он чуть не вылетел из отряда, внезапно встала перед глазами, и сразу что-то защемило. Морозка только теперь почувствовал, что это событие было, может, самым важным для него за последний месяц — гораздо важнее того, что произошло в госпитале.
— Михрютка, — сказал он жеребцу и взял его за холку. — Надоело мне все, браток, до бузовой матери… — Мишка мотнул головой и фыркнул.
Подъезжая к штабу, Морозка принял твердое решение «наплевать на все» и отпроситься во взвод к ребятам, сложив с себя обязанности ординарца.
На крыльце у штаба Бакланов допрашивал дезертиров, — они были безоружны и под охраной. Бакланов, сидя на ступеньке, записывал фамилии.
— Иван Филимонов… — лепетал один жалобным голосом, изо всех сил вытягивая шею.
— Как?.. — грозно переспрашивал Бакланов, поворачиваясь к нему всем туловищем, как это делал обычно Левинсон. (Бакланов думал, что Левинсон поступает так, желая подчеркнуть особую значительность своих вопросов, на самом же деле Левинсон поворачивался так потому, что когда-то был ранен в шею и иначе вообще не мог повернуться.)
— Филимонов?.. Отчество!..
— Левинсон где? — спросил Морозка. Ему кивнули на дверь. Он поправил чуб и вошел в избу.
Левинсон занимался за столом в углу и не заметил его. Морозка в нерешительности поиграл плеткой. Как и всем в отряде, командир казался Морозке необыкновенно правильным человеком. Но так как жизненный опыт подсказывал ему, что правильных людей не существует, то он старался убедить себя, что Левинсон, наоборот, — величайший жулик и «себе на уме». Тем не менее он тоже был уверен, что командир «все видит наскрозь» и обмануть его почти невозможно: когда приходилось просить о чем-либо, Морозка испытывал странное недомогание.