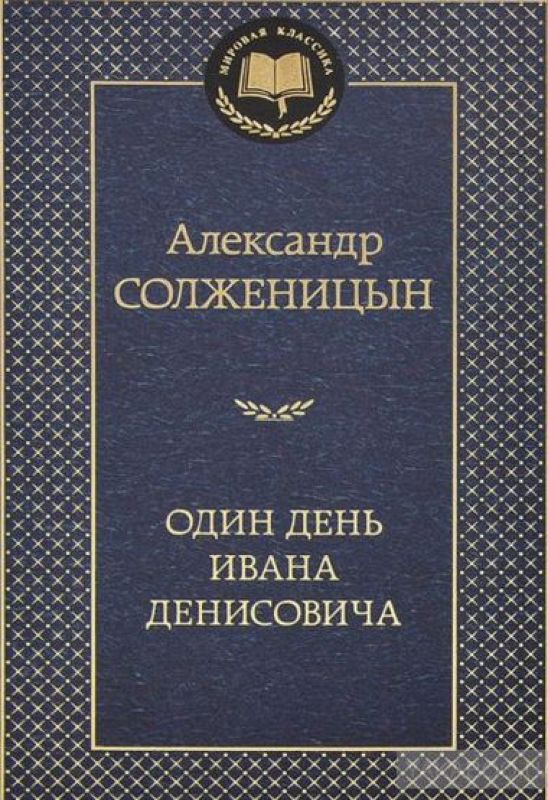Он думал — про то разговор идёт, как Буйновский сегодня на разводе погорел. — Залупаться не надо было! — сокрушённо покачал он головой. — Обошлось бы всё.
Сенька Клевшин — он тихий, бедолага. Ухо у него лопнуло одно, ещё в сорок первом. Потом в плен попал, бежал три раза, излавливали, сунули в Бухенвальд. В Бухенвальде чудом смерть обминул, теперь отбывает срок тихо. Будешь залупаться, говорит, пропадёшь.
Это верно, кряхти да гнись. А упрёшься — переломишься.
Алексей лицо в ладони окунул, молчит. Молитвы читает.
Доел Шухов пайку свою до самых рук, однако голой корочки кусок — полукруглой верхней корочки — оставил. Потому что никакой ложкой так дочиста каши не выешь из миски, как хлебом. Корочку эту он обратно в тряпицу белую завернул на обед, тряпицу сунул в карман внутренний под телогрейкой, застегнулся для мороза и стал готов, пусть теперь на работу шлют. А лучше б и ещё помедлили.
Тридцать восьмая бригада встала, разошлась: кто к растворомешалке, кто за водой, кто к арматуре.
Но ни Тюрин не шёл к своей бригаде, ни помощник его Павло. И хоть сидела 104-я вряд ли минут двадцать, а день рабочий — зимний, укороченный — был у них до шести, уж всем казалось большое счастье, уж будто и до вечера теперь недалеко.
— Эх, буранов давно нет! — вздохнул краснолицый упитанный латыш Кильдигс. — За всю зиму — ни бурана! Что за зима?!
— Да… буранов… буранов… — перевздохнула бригада.
Когда задует в местности здешней буран, так не то что на работу не ведут, а из барака вывести боятся: от барака до столовой если верёвку не протянешь, то и заблудишься. Замёрзнет арестант в снегу — так пёс его ешь. А ну-ка убежит? Случаи были. Снег при буране мелочкий-мелочкий, а в сугроб ложится, как прессует его кто. По такому сугробу, через проволоку перемётанному, и уходили.
Недалеко, правда.
От бурана, если рассудить, пользы никакой: сидят зэки под замком; уголь не вовремя, тепло из барака выдувает; муки в лагерь не подвезут — хлеба нет; там, смотришь, и на кухне не справились. И сколько бы буран тот ни дул — три ли дня, неделю ли, — эти дни засчитывают за выходные и столько воскресений подряд на работу выгонят.
А всё равно любят зэки буран и молят его. Чуть ветер покрепче завернёт — все на небо запрокидываются: матерьяльчику бы! матерьяльчику!
Снежку, значит.
Потому что от позёмки никогда бурана сто́ящего не разыграется.
Уж кто-то полез греться к печи 38-й бригады, его оттуда шуранули.
Тут в зал вошёл и Тюрин. Мрачен был он. Поняли бригадники: что-то делать надо, и быстро.
— Та-ак, — огляделся Тюрин. — Все здесь, сто четвёртая?
И, не проверяя и не пересчитывая, потому что никто у Тюрина никуда уйти не мог, он быстро стал разнаряжать. Эстонцев двоих да Клевшина с Гопчиком послал большой растворный ящик неподалеку взять и нести на ТЭЦ. Уж из того стало ясно, что переходит бригада на недостроенную и поздней осенью брошенную ТЭЦ. Ещё двоих послал он в инструменталку, где Павло получал инструмент. Четверых нарядил снег чистить около ТЭЦ, и у входа там в машинный зал, и в самом машинном зале, и на трапах. Ещё двоим велел в зале том печь топить — углем и досок спереть, поколоть. И одному цемент на санках туда везти. И двоим воду носить, а двоим песок, и ещё одному из-под снега песок тот очищать и ломом разбивать.
И после всего того остались ненаряженными Шухов да Кильдигс — первые в бригаде мастера. И, отозвав их, бригадир им сказал:
— Вот что, ребята! — (А был не старше их, но привычка такая у него была — «ребята».) — С обеда будете шлакоблоками на втором этаже стены класть, там, где осенью шестая бригада покинула. А сейчас надо утеплить машинный зал. Там три окна больших, их в первую очередь чем-нибудь забить. Я вам ещё людей на помощь дам, только думайте, чем забить. Машинный зал будет нам и растворная и обогревалка. Не нагреем — помёрзнем как собаки, поняли?
И может быть, ещё б чего сказал, да прибежал за ним Гопчик, хлопец лет шестнадцати, розовенький, как поросёнок, с жалобой, что растворного ящика им другая бригада не даёт, дерутся. И Тюрин умахнул туда.
Как ни тяжко было начинать рабочий день в такой мороз, но только начало это и важно было переступить, только его.
Шухов и Кильдигс посмотрели друг на друга. Они не раз уж работали вдвоём и уважали друг в друге и плотника и каменщика. Издобыть на снегу голом, чем окна те зашить, не было легко. Но Кильдигс сказал:
— Ваня! Там, где дома сборные, знаю я такое местечко — лежит здоровый рулон толя. Я ж его сам и прикрыл. Махнём?
Кильдигс хотя и латыш, но русский знает как родной, — у них рядом деревня была старообрядческая, сыздетства и научился. А в лагерях Кильдигс только два года, но уже всё понимает: не выкусишь — не выпросишь. Зовут Кильдигса Ян, Шухов тоже зовёт его Ваня.
Решили идти за толем. Только Шухов прежде сбегал тут же в строящемся корпусе авторемонтных взять свой мастерок. Мастерок — большое дело для каменщика, если он по руке и лего́к. Однако на каждом объекте такой порядок: весь инструмент утром получили, вечером сдали. И какой завтра инструмент захватишь — это от удачи. Но Шухов однажды обсчитал инструментальщика и лучший мастерок зажилил. И теперь каждый вечер он его перепрятывает, а утро каждое, если кладка будет, берёт. Конечно, погнали б сегодня 104-ю на Соцгородок — и опять Шухов без мастерка. А сейчас камешек отвалил, в щёлку пальцы засунул — вот он, вытянул.
Шухов и Кильдигс вышли из авторемонтных и пошли в сторону сборных домов. Густой пар шёл от их дыхания. Солнце уже поднялось, но было без лучей, как в тумане, а по бокам солнца вставали — не столбы ли? — кивнул Шухов Кильдигсу.
— А нам столбы не мешают, — отмахнулся Кильдигс и засмеялся. — Лишь бы от столба до столба колючку не натянули, ты вот что смотри.
Кильдигс без шутки